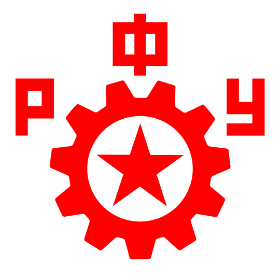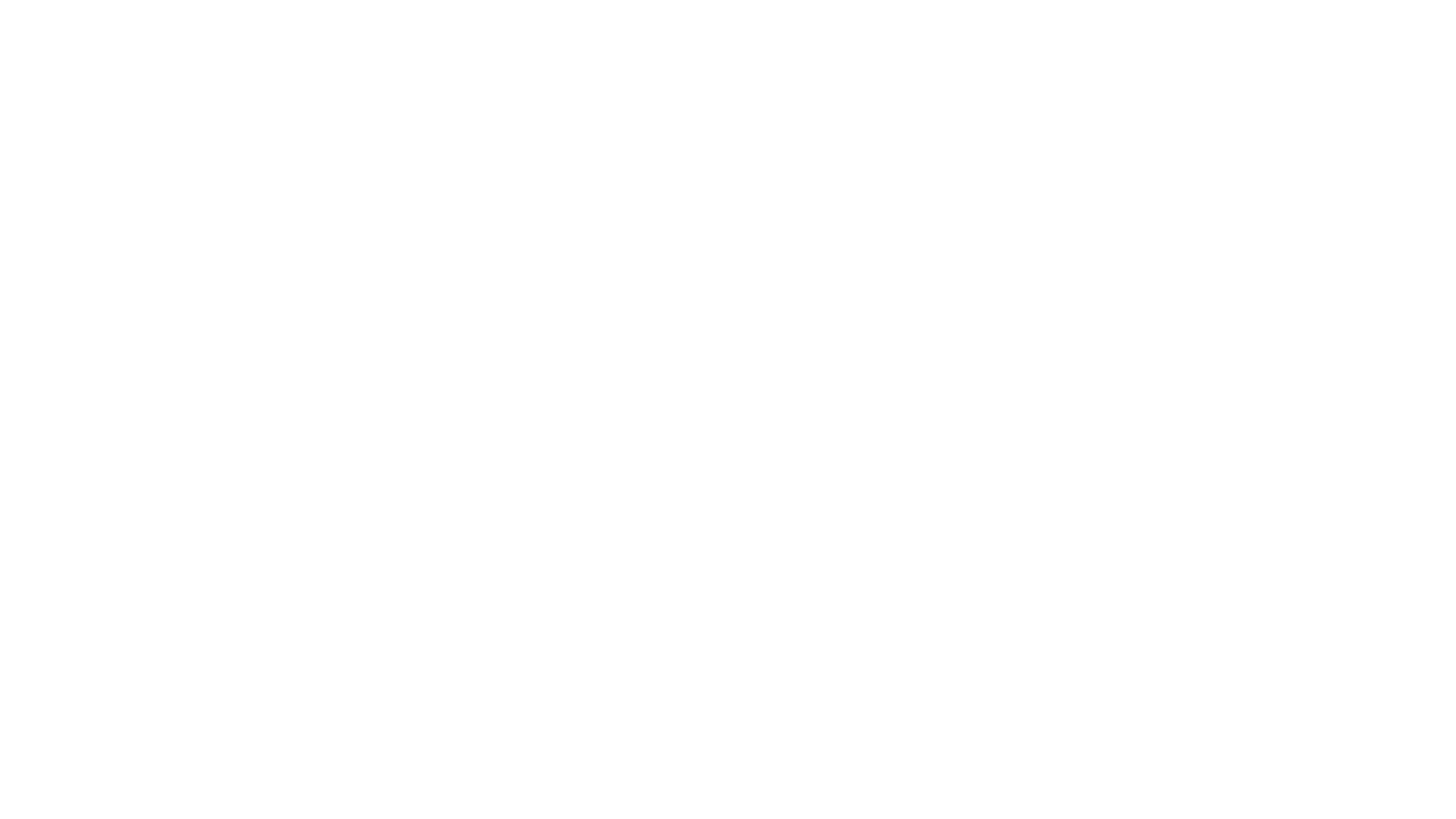
Гвинея – коммунистическая бунтарка поневоле
(или как товарищ Секу Туре народный некапитализм строил
и буржуазную культуру отменял)
и буржуазную культуру отменял)
Время чтения ~ 3 часа 15 минут
Содержание
Предисловие
С момента написания первой статьи, про которую многие уже могли забыть, а кто-то – и вовсе не читал, прошло почти два с половиной года. Такой разрыв может объясняться как субъективными причинами – к примеру, статья бы вообще не вышла или вышла бы гораздо позже, если бы не помощь одной товарки с восстановлением операционной системы, на которой она находилась, – так и объективными. Вторые гораздо более обстоятельны. И хотя мы берём тут за цель разобраться с Гвинеей – небольшой бывшей французской колонией на северо-западном побережье Африки с населением в 13 миллионов человек, – мы не можем тем не менее избежать общего анализа истории национально-освободительной борьбы против французского империализма в Западной Африке. Да более того, только лишь пройдя через частный случай, мы и должны, благодаря диалектическому единению дедукции и индукции, раскрыть его так, как не могли в первой, вводной статье – ибо нам не хватало примеров, не хватало погружения в саму национально-освободительную борьбу. А потому этот аспект наименее раскрыт в вводной статье. И потому настоящую статью можно по праву считать второй вводной.
Немного описав закономерности развития Гвинеи в античные и средневековые времена, некоторые из которых существенно влияют на дальнейшее развитие этой страны, мы устремляем наш взор на колонизацию Гвинеи и развитие её колониальной экономики. Тут мы будем ссылаться на работы французских исследователей Одиль Герг и Жана Сюре-Каналя. О втором чуть позже поговорим детальнее. Раскроем то, как капитализм «борется» с рабством и как обустраивает экспортозависимую экономику. После перейдём к этапу национально-освободительной борьбы и раскроем основные особенности гвинейской ячейки Африканского Демократического Объединения. Тут будем полагаться в основном на работу американской исследовательницы Элизабетт Шмидт «Cold War and Decolonization in Guinea, 1946–1958», которая не только предоставляет обширный фактологический материал, но и содержит в себе немало верных выводов.
Немного описав закономерности развития Гвинеи в античные и средневековые времена, некоторые из которых существенно влияют на дальнейшее развитие этой страны, мы устремляем наш взор на колонизацию Гвинеи и развитие её колониальной экономики. Тут мы будем ссылаться на работы французских исследователей Одиль Герг и Жана Сюре-Каналя. О втором чуть позже поговорим детальнее. Раскроем то, как капитализм «борется» с рабством и как обустраивает экспортозависимую экономику. После перейдём к этапу национально-освободительной борьбы и раскроем основные особенности гвинейской ячейки Африканского Демократического Объединения. Тут будем полагаться в основном на работу американской исследовательницы Элизабетт Шмидт «Cold War and Decolonization in Guinea, 1946–1958», которая не только предоставляет обширный фактологический материал, но и содержит в себе немало верных выводов.
Наиболее интересной частью нашей работы является разбор деятельности лидера независимой Гвинеи Секу Туре и его режима. Легендарный советский философ, один из немногих марксистов своего времени, Эвальд Васильевич Ильенков не зря писал, что «любая новая теория возникает только через критическое преодоление имеющейся теории того же самого предмета»1. По ходу работы проскакивает критика зачастую людоедских либерально-консервативных представлений о положении в странах-колониях. В конце статьи, сосредоточившись на критике неверных по нашему представлению концепций людей, примыкавших к марксизму и коммунистическому движению – француза Жана Сюре-Каналя и представителей советской хрущёвской колониальной теории, а также самого Секу Туре, мы пытаемся провести классовый анализ гвинейского режима, проследить его развитие и угасание, его роль в системе противостояния лагерей империализма и социализма.
Своим объёмом статья также обязана немалому количеству заимствований – ибо мало было бы смысла пересказывать то, что уже было сказано, – цитат и личных воспоминаний. Последние приведены скорее в доказательство какой-то уже сформированной мысли и не служат её основой. Мы понимаем всю сомнительность личных воспоминаний как исторических источников, но не отказываемся от них вовсе, ибо они часто служат прекрасными иллюстрациями происходивших событий. Главное – подходить к той или иной цитате, к тому или иному воспоминанию конкретно, с учётом всех обстоятельств и личности самого человека.
Предвосхищаем шквал критики, который может посыпаться на нас в связи с выбранной темой и затрачиваемыми на её раскрытие ресурсами. Дескать, мы в Украине живём, и зачем нам эта далёкая Гвинея, о которой украинский пролетарий знать не знает, нужна? Нужна. Классовый анализ географических границ не знает. Во-первых, положение рабочих всего мира необходимо имеет общие черты и свои закономерности, которые нужно понимать. Кроме того, необходим тщательный анализ рабочего движения всех стран для понимания его достижений и ошибок, которых нам желательно избегать. Во-вторых, существуют нынче некоторые умники на правом фланге, заявляющие о некоем разрушительном воздействии социализма на Африку2, которым нужно противопоставить действительно материалистическое, марксистское понимание краха социалистических (или «социалистических») режимов Африки. Все эти причины и служат обоснованием написания нашей статьи.
Впрочем, для того, чтобы наш читатель не заскучал при прочтении трёхчасовой статьи, выше было приведено её содержание вместе с гиперссылками на соответствующие главы и разделы.
Впрочем, для того, чтобы наш читатель не заскучал при прочтении трёхчасовой статьи, выше было приведено её содержание вместе с гиперссылками на соответствующие главы и разделы.
Доколониальная эпоха и первые попытки колонизации
Племена, занимавшиеся тогда охотой и собирательством, населяли территорию современной Гвинеи около 30 000 лет назад, а земледелие начало практиковаться около 3 000 лет назад. Примерно в VIII веке нашей эры гвинейские территории заселили популяции бага, кониаги и налу, но уже через столетие с небольшим их изгнали племена сусу (сосо) и малинка (мандинко, манденга, маненка) а в XI веке к ним присоединилась и третья народность – диялонке (ялонке, ялунга). На протяжении нескольких веков Гвинея находилась на окраине крупных западноафриканских империй. Само появление таких империй было непосредственно связано с развитием транссахарской торговли3: первооткрывательницей в этом плане стала Гана, которая к X веку смогла установить контроль над значительной частью рынка золота.
Транссахарская торговля также способствовала обогащению Ганы текстилем, продуктами питания и солью, что позволило развиваться крупным городским центрам. Кроме того, торговля вынуждала проводить территориальную экспансию, целью которой было заполучить контроль над различными торговыми путями. На территориях от Верхнего Сенегала до Верхнего Нигера существовало подконтрольное Империи вассальное королевство, где в основном проживал народ малинки.
Однако ничему не суждено длиться вечно. С постепенным высыханием региона Сахель важнейшие центры торговли стали смещаться на юг к реке Нигер и на запад к Сенегалу. Это постепенно усиливало вассалов Ганы и одновременно ослабляло саму империю, чем и воспользовалась династия Альмаравидов, в 1054 году сумевшая занять королевский трон. После краха Ганы на территории Гвинеи установилось королевство Соссо во главе с полумифическим правителем Сумаоро Канте. В 1235 году в битве при Кирене его, в свою очередь, победил малийский лидер («манса») Сундиата Кейта, представитель исламизированной верхушки народа малинка и, захватив королевство, положил начало Империи Мали. При его правлении, помимо торговли активно развивалось сельское хозяйство – выращивались новые культуры, в том числе и хлопок. После его смерти началась череда смертельных интриг в битве за престолонаследие, пока в 1285 году трон не узурпировал вольноотпущенник, представитель рабской гвардии Сакура. Именно он окончательно покорил на востоке ключевой узел в транссахарской торговле с Египтом – город Гао, столицу в будущем могущественного Сонгайского царства.
Вершина могущества Империи Мали, обогатившейся за счёт контроля и налогообложения торговли солью из северных регионов и золотом, добываемым в южных регионах, а также вовлечённости в торговлю слоновой костью, рабами, специями, шёлком и керамикой, приходится на правление мансы Мусы I. Он был известен своим неизмеримым богатством (в 2012 году его состояние оценили в 400 млрд долларов), а население Мали в XV веке, состоявшее в основном из свободных крестьян-общинников и кочевников-скотоводов, превышало 40 миллионов человек. Однако сосредоточение богатства в руках Мусы и правящей династии, а также последующая смерть мансы, привели к нещадной борьбе за передел этого богатства. Началась эпоха междоусобиц и вассальных восстаний, где последним гвоздём в крышку гроба стало отделение Гоа и последующее создание Сонгайской Империи. Как и Мали с Ганой, Сонгай получила своё могущество в транссахарской торговле – в ней же обрела она и свой покой. Отделение вкупе с разразившейся в Сонгае гражданской войной привели Империю к её концу, и то, что раньше было Империей Гана, Империей Мали и Сонгаем, распалось на многочисленные мелкие королевства.
Однако ничему не суждено длиться вечно. С постепенным высыханием региона Сахель важнейшие центры торговли стали смещаться на юг к реке Нигер и на запад к Сенегалу. Это постепенно усиливало вассалов Ганы и одновременно ослабляло саму империю, чем и воспользовалась династия Альмаравидов, в 1054 году сумевшая занять королевский трон. После краха Ганы на территории Гвинеи установилось королевство Соссо во главе с полумифическим правителем Сумаоро Канте. В 1235 году в битве при Кирене его, в свою очередь, победил малийский лидер («манса») Сундиата Кейта, представитель исламизированной верхушки народа малинка и, захватив королевство, положил начало Империи Мали. При его правлении, помимо торговли активно развивалось сельское хозяйство – выращивались новые культуры, в том числе и хлопок. После его смерти началась череда смертельных интриг в битве за престолонаследие, пока в 1285 году трон не узурпировал вольноотпущенник, представитель рабской гвардии Сакура. Именно он окончательно покорил на востоке ключевой узел в транссахарской торговле с Египтом – город Гао, столицу в будущем могущественного Сонгайского царства.
Вершина могущества Империи Мали, обогатившейся за счёт контроля и налогообложения торговли солью из северных регионов и золотом, добываемым в южных регионах, а также вовлечённости в торговлю слоновой костью, рабами, специями, шёлком и керамикой, приходится на правление мансы Мусы I. Он был известен своим неизмеримым богатством (в 2012 году его состояние оценили в 400 млрд долларов), а население Мали в XV веке, состоявшее в основном из свободных крестьян-общинников и кочевников-скотоводов, превышало 40 миллионов человек. Однако сосредоточение богатства в руках Мусы и правящей династии, а также последующая смерть мансы, привели к нещадной борьбе за передел этого богатства. Началась эпоха междоусобиц и вассальных восстаний, где последним гвоздём в крышку гроба стало отделение Гоа и последующее создание Сонгайской Империи. Как и Мали с Ганой, Сонгай получила своё могущество в транссахарской торговле – в ней же обрела она и свой покой. Отделение вкупе с разразившейся в Сонгае гражданской войной привели Империю к её концу, и то, что раньше было Империей Гана, Империей Мали и Сонгаем, распалось на многочисленные мелкие королевства.
Начиная с XIII века, будучи частью транссахарской торговли, регион активно участвовал в торговле рабами, которая была значимой составляющей экономик африканских империй. Так, Империя Мали была достаточно крупным поставщиком рабов на невольничий рынок, не брезгуя их эксплуатациейи во внутригосударственных целях, а Империя Сонгай предпочитала использовать рабов в качестве солдат, заставляя воевать за интересы своей верхушки. Кроме того, создавшийся после распада империй вакуум только усиливал товарооборот рабами в регионе, учащались набеги на них со стороны пиратов и рабовладельческих караванов. Гораздо более катастрофической ситуация стала с приходом португальцев в XV веке. Они основали на побережьях несколько торговых постов и положили тем самым начало печально известной трансатлантической работорговли.
Однако ограничиваясь побережьем для получения прибыли от торговли рабами, слоновой костью и специями, португальцы и другие европейцы не намеревались сильно продвигаться вглубь Африки, где тем временем бурно кипела политическая жизнь. Так, в XVI веке на плато Фута-Джаллон расселились кочевники-скотоводы фульбе. В 1720-х годах их исламизированная верхушка начала священную войну против народности дьялонке4 и против фульбе-язычников, которая в итоге длилась более 50 лет. Тем не менее, в результате ими всё же было создано феодальное государство Фута-Джаллон, просуществовавшее до начала XX века, о структуре которого стоит написать пару абзацев.
Население Фута-Джалона делилось на три основных сословия: на вершине пирамиды стояла исламская аристократическая верхушка фульбе; далее – находящиеся в подчинённом положения фульбе из углублённых регионов, которые были наследниками фульбе-язычников, достаточно поздно перешли в ислам и занимались в основном скотоводством и земледелием, а также присмотром за владениями аристократов; внизу цепочки находились т. н. «матюбе» – пленники разнообразного происхождения (в основном дьялонке, соссо и малинка), захваченные во время священной войны. Они жили в земледельческих деревнях, называемых «раундами», часто глубоко в долинах, вдали от своих хозяев на плато, и сами занимались земледелием в пользу своих хозяев во все дни недели, кроме четверга и пятницы, когда им была предоставлена возможность работать на себя. Помимо трёх основных, существовало и четвёртое сословие, представленное различными кастами иностранного происхождения, например сенегальские гриоты5 и торговцы из народа малинка, пользовавшиеся покровительством крупнейших феодальных семей6.
Аристократы, кроме того, что занимались религиозными и военными (чаще – военно-пиратскими) делами, также имели государственную власть и взимали с фульбе второго сословия налоги. Главным из них была фарилла (десятина урожая), также существовал налог на наследство и ряд прочих. Всё это распределялось между различными звеньями иерархии: приходами, затем округами и провинциями, каждым из которых правил свой феодал; самым же главным феодалом был альмами, глава государства. Он считался религиозным и мирским вождём, верховым судьёй и командующим армиями, и избирался советом старейшин Тимбо, политической столицы, а затем наделялся тюрбаном в Фугумбе, религиозной столице. Начиная с 1840 года была установлена диархическая система выборной монархии, когда альмамы из двух самых могущественных семей поочерёдно сменяли друг друга7.
Для описания дальнейшей истории Фута-Джалона вплоть до вмешательства Франции процитируем Сюре-Каналя: «Государство Фута-Джалон смогло навязать свою власть более слабым и анархичным соседям: большинство вождей на побережье, от Рио-Нуньеса до Форекарии, платили „сагале“ (дань) Альмами Фута; Альфа Мо Лабе даже смог разрушить светское королевство Малинке в Габу. Более сильные африканские соседи Фута-Джалона, если таковые имелись, уважали альмами – например, Самори. Горная природа Фута-Джалона отпугивала агрессоров, и, что самое важное, магико-религиозная репутация фуланских „марабутов“ (богословов – прим.) Фута заставляла их врагов бояться, что, дескать, напав на них, они обрушат на себя гнев небес. Но с приходом французских завоевателей элементы слабости и внутренней разобщённости, заложенные в государстве Фута-Джалон, проявились в полной мере: если Самори8 и Ахмаду в Судане, как известно, оказали колониальным войскам сильное сопротивление, то Фута-Джалон сдался после одного-единственного сражения. Завоевателю оставалось только использовать соперничество между претендентами на пост альмами и между альмами и его самым могущественным вассалом, альфой Мо Лабе (вождем диивала (провинции – прим.) Лабе).»9 5 июля 1881 года над государством Фута-Джалон был установлен французский протекторат.
Часть I. Гвинея под властью Франции
Проникновение французов в Гвинею началось В XIX веке. Они пытались завязать торговые отношения с местными жителями, но зачастую это заканчивалось истреблением европейских купцов. В начале второй половины XIX века Франции удалось установить на Перцовом Береге (в южной части Гвинеи) форты и укреплённые посты для защиты торговцев. С вождями местных племён были заключены договора о ненападении, а само государство Фута-Джаллон, как уже было сказано, перешло под протекторат Третьей Республики. Вместе с тем окончательно подчинить Гвинею удалось лишь в 1914 году, через шесть лет после победы над Самори Туре (см. Прим. 9 выше), хотя из-за длительного сопротивления многочисленных лесных вождеств восточная часть Гвинеи оставалась под военным контролем вплоть до 1911–1912 годов10.
Полностью покорив Гвинею, Франция ввела для неё систему колониального управления, идентичную той, которая применялась на других африканских территориях её колониальной империи. Под властью генерал-губернатора страна делилась на двадцать девять округов, во главе которых стоял командующий. Традиционные вождества было решено трансформировать, то бишь переделать так, как это было выгодно колониальным правителям – так, как позволяло бы им иметь достаточный контроль над территориями. Представители французской администрации заседали в Дакаре, а затем в Конакри. Африканцы использовались в качестве посредников, выступая в роли «chefs de canton» (вождей округов) и деревенских старост. Бывшие вожди, которые демонстрировали свою лояльность французской власти, оставались у власти, а тех, кто пытался сопротивляться – убирали. Однако власть этих помощников контролировалась, и в их задачи входили сбор налогов, вербовка рабочей силы для принудительных работ или военной службы, выполнение судебных обязанностей и передача экономической политики на местный уровень. Таким образом, африканские вожди и посредники полностью становились французскими марионетками, а сама феодальная система становилась эффективным инструментом французского колониального господства11.
Эксплуатация Гвинеи в этот период ничем не отличается от эксплуатации в других африканских колониях: рабочий сводится до положения раба, крестьянин – до положения рабочего (то бишь, опять-таки раба), мелкой буржуазии не предоставляют никаких шансов для выхода на уровень французской буржуазии; саму страну в ущерб её продовольственным культурам заселяют экспортным культурами, монополия на производство и продажу которых, естественно, принадлежит французским компаниям. И всё это – для изъятия ими максимальной прибыли, без малейшего учёта благосостояния народа и развития экономики. Разумеется, что в такой ситуации и с наличием таких противоречий неотвратим был процесс радикализации населения, зарождения антиколониальных, национально-освободительных движений. Руководить такими движениями в Гвинее и стала местная секция Африканского Демократического Объединения. Это всё, в принципе, и так является само собой разумеющимся, а потому тут не было бы также лишним обратить внимание на некоторые особенности и характеристики колониальной экономики Гвинеи.
Колониальная экономика Гвинеи
Переходя
Рабство
В первой
Торговля
Торговля
Производство и экспорт
Одной
Кроме этого, Гвинея экспортировала продукты пальмового производства, орехи колы, шкуры и крупный рогатый скот, а после Второй мировой войны – кофе и ананасы. Добыча полезных ископаемых началась в 1950-х годах, хотя некоторые алмазы экспортировались из лесного региона ещё в 1936 году. С 1953 г. в окрестностях Конакри велась добыча железной руды компанией Compagnie Minière de la Guinée française с частичным американским капиталом. В 1957 г. добыча достигла максимума в 1 млн. т, но в 1966 г. была прекращена33. Всего на предприятии работало свыше тысячи африканцев34.
Урбанизация и классовый аспект
Развитие
Часть II. Путь к независимости.
1945-1947. Период первый. Послевоенные годы и расцвет национально-освободительной борьбы
Именно
Опора гвинейской ячейки АДО
Перед
1947-1950. Период террора и репрессий
Продолжаем
1950-1953. Период третий. Раскол с ФКП, оппортунизм и разногласия в партии
1950 год.
АДО(г) и выборы
/1951. Отдельно
1954-1955. Период восстановления
Возвращаясь
1955-1958. Период шестой. Восход АДО(г)/ДПГ к власти
«Для французского
Период седьмой и последний. 1958. День «да или нет»
Убеждённые
Часть III. ДПГ и власть
«Так не доставайся же ты никому!»
Если бы отношения
Первые шаги новой власти
После провозглашения
Религиозный кризис
Религиозный кризис
Национализация школ
Апрельский заговор. Декабрьский заговор. Заговорами правых ударим левых!
Уже не секрет
«Заговор учителей». Открытый антикоммунистический террор «коммуниста» Ахмеда Секу Туре
Секу Туре возвеличивали
Секу Туре и марксизм
И если с «коммунизмом»
Экономический и исторический анализ Гвинеи. Классовая природа режима Секу Туре
«История всех
Глава 4. Послесловие. Некоторые теоретические выводы
Осталось нам лишь подвести итоги и сделать некоторые выводы.
Две концепции национально-освободительной борьбы: сталинская или хрущёвская?
Во второй половине XX века среди стран «арабского социализма» была популярна утопическая классово-примирительная теория всеобщего благосостояния, согласно которой в обществе, преимущественно свободном от эксплуатации иностранным капиталом, возможно мирное развитие различных классовых сил. Эта теория была воплощена в жизнь и в Гвинее, пусть и под несколько другим соусом. Впрочем, было это всеобщим благосостоянием, или же всеобщей нищетой – вопрос интересный. Однако, как вновь доказывает история, любая теория, не ставящая своей целью обретение пролетариатом власти и её осуществление, служит на деле исключительно врагам пролетариата. Но в главном пролетарском государстве – СССР – считали иначе. К каким только уловкам не прибегали советские «теоретики», дабы оправдать режим Секу Туре. Разберём на основе примеров, данных в книге Артура Джея Клингхоффера «Soviet Perspectives on African socialism» – сами первоисточники нам недоступны. Итак, свою книгу Клингхоффер начинает с разбора сталинских позиций по поводу национально-освободительного движения в Африке. «Большое внимание уделялось африканскому пролетариату. Он считался единственной силой, способной добиться подлинной независимости африканских народов. Согласно двухэтапной теории колониальной революции, за буржуазно-демократической революцией должна была последовать социалистическая революция, возглавляемая пролетариатом. Как уже отмечалось, независимость, достигнутая под руководством национальной буржуазии в результате буржуазно-демократической революции, была признана Советами фикцией. Потехин заявляет: „Сталинская теория колониальной революции исходит из того, что решение колониального вопроса, освобождение угнетённых народов от колониального рабства, невозможно без пролетарской революции и свержения империализма“. Он утверждал, что национальная буржуазия хочет независимости, но она стремится идти по капиталистическому пути и избегает демократических реформ. „Товарищ Сталин предупреждал, и прошедшее столетие полностью подтвердило, что полная и окончательная победа колониальной революции возможна только при руководящей роли пролетариата“. Написав это в 1953 году, Потехин188 утверждал, что национально-освободительное движение переходит во вторую стадию, и что руководство национальной буржуазии сменяется руководством пролетариата. Крестьянство и мелкая буржуазия были союзниками пролетариата в этом начинании»189.
Эта непонятная Клингхофферу c его буржуазной узостью мысль и является единственно верным с марксистской точки зрения взглядом на национально-освободительную борьбу, опирающимся на конкретный анализ роли пролетариата как единственного до конца революционного класса, который может своими руками построить новый, коммунистический способ производства. Однако от такого взгляда резко отошли при Хрущёве. «Новый хрущевский подход к африканским делам начал выкристаллизовываться примерно во время Бандунгской конференции лидеров стран Азии и Африки (апрель 1955 года). Знаменательно, что начало этому новому отношению было положено сразу после отставки Георгия Маленкова с поста председателя Совета министров СССР (февраль 1955 года) и его замены Николаем Булганиным. Будучи первым секретарём Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, Никита Хрущёв создал правящую комбинацию с Булганиным, в которой Хрущев был старшим партнёром. В марте 1958 года Хрущёв стал единоличным лидером, сменив Булганина на посту Председателя Совета Министров, но сохранив за собой пост Первого секретаря Коммунистической партии. (…) Сталинская сентенция о том, что только пролетарское руководство освободительной борьбой может привести к подлинной национальной независимости африканских народов, была отвергнута в соответствии с новой советской политической линией. Если статья за подписью „Комментатор“, появившаяся в апрельском номере журнала „Международные отношения“ за 1955 год, ещё отражала старую сталинскую линию по этому вопросу, то редакционная статья в „Советском Востоковедении“ в 1956 году, сразу после двадцатого съезда партии, атаковала сталинскую точку зрения: „Марксистско-ленинский тезис хорошо известен, что во время общего кризиса капитализма пролетариат в колониальных и зависимых странах, где капитализм относительно высоко развит, может добиться гегемонии национально-освободительной и антифеодальной революции..... Из этого абсолютно правильного тезиса, однако, был сделан неверный вывод о том, что только руководство пролетариата может обеспечить победу в борьбе за национальную независимость.“»190
«Неверный вывод о том, что только руководство пролетариата может обеспечить победу в борьбе за национальную независимость». Что же, хрущёвская софистика в деле. В то время, как Сталин кристально ясно говорил о том, что подлинная независимость нации невозможна без пролетарской революции, без пролетарского государства, хрущёвская «теория», очевидно, говорит о независимости неподлинной, о независимости формальной, той, которая была обретена, например, Гвинеей в 1958 году. Сталин разбил эти выводы ещё задолго до их появления. Выводы, которые как бы говорят нам о том, что независимости не нужно добиваться, её не нужно оберегать, нам всего лишь нужно ею довольствоваться и всячески оправдывать, сколь бы формальной она ни была. Блестящая идея, отлично реализованная на практике и в теории.
Некапитализм, не иначе
Блестящая идея, отлично реализованная на практике поддержки антикоммунистических режимов и в теории некапитализма. Именно с точки зрения некапитализма советскими теоретиками и самим светочем гвинейской демократии – Секу Туре – оправдывался гвинейский режим. Однако идея некапитализма – не то, чем она на первый взгляд кажется. Логично было бы предположить, что суть её заключается в том, что африканские страны не могут из-за отсутствия всех необходимых материальных предпосылок стать на социалистический путь развития, а потому должны преодолеть сначала некапиталистический путь развития. Закон двойного отрицания, эге. Но это неверно. Советская теория зашла гораздо, гораздо дальше. По мнению большинства её представителей, капитализм в Африке или находился на очень низкой стадии, или его вообще не было, однако в африканских условиях можно было попросту пойти в обход и как нечего делать пропустить целый способ производства191. Критикуя такой взгляд с позиции того, что нам нужно строить не социализм, а капитализм, Клингхоффер вслед за советскими «специалистами» упускал то, что капитализм в Африке уже был господствующим строем, что он был «экспортирован» европейцами ещё со времён чисто торговых отношений, что при колонизации европейские монополии внедряли повсеместно товарно-денежные отношения, что феодальные институты они подчиняли капитализму, что Африка может пропустить не капитализм, а только стадию свободной конкуренции, и что в XX веке она уже повсеместно втянута в империалистическую систему. Однако советским теоретиками представлялось, что у национальной элиты есть выбор, подобный выбору предыстории персонажа в компьютерной игре – выбор между началом построения капитализма и между началом построения… Некапитализма. Который, в свою очередь, потом приведёт нас к социализму. Но если издавна известно, что социализм выходит из лона капитализма, а по мнению адептов некапитализма именно некапитализм является вариантом мимо проходящего развития к социализму, то не является ли этот некапитализм тем же капитализмом, только «не»капитализмом192? Однако отвлечёмся от чистой теоритизации и посмотрим, как идея «некапитализма» осуществлялась на практике. А осуществлялась она очень просто. Гвинея объявлялась одной из стран, идущих по некапиталистическому пути развития193, а Советский Союз во главе с Хрущёвым путём экономических подачек и постройки заводов пытался «приобщить» её к социалистическому лагерю. Когда же это не получалось, а Гвинея начинала рыночные реформы и улучшала отношения с США и Францией, её не критиковали – о ней попросту умалчивали: про неё почти нигде не писали, а фокус внимания смещался на другие страны194. Когда она вновь «возвращалась на некапиталистический путь развития» – всё повторялось, только с меньшим энтузиазмом. И так далее, и тому подобное. Оппозиционным и действительно революционным силам внимания со стороны Советского Союза не уделялось. А ведь они были.
Ещё раз о «девиации в Маму», или причины поражения коммунистов
Начиная с основания гвинейской ячейки Африканского Демократического Объединения в ней шла непрерывная борьба между двумя линиями – пролетарской и буржуазной. В 1957 году между ними произошло крупное столкновение, и пролетариат одержал тогда столь же крупное поражение. Но не был до конца разбит и продолжал влиять на политику ДПГ.После обретения Гвинеей независимости пролетариат путём репрессий выдворялся из политики, пока к средине 70-х его линия не была полностью уничтожена.
Про классовую борьбу времён борьбы Гвинеи за независимость мы уже писали, различие между пролетарской и буржуазной линией тут было во многом тождественно различию позиций по национально-освободительному вопросу: пролетарскую линию тут стоит соотносить с линией Д’Арбуссье, буржуазную – с линией Уфуэ-Баньи. И потому можно сказать, что в первые годы доминировала именно первая, и что Секу Туре как лидер гвинейской секции АДО был её представителем. Это изменилось в начале 50-х, когда Секу Туре высказался за поддержку позиции Уфуэ-Баньи, а Морикандиан Саване покинул партию. В это время линия пролетариата смещается на низовые чины партии, внепартийные элементы, профсоюзы и студенческие формирования. На протяжении нескольких лет антагонистическое противостояние между верхами и низами партии накапливалось, пока не вылилось в борьбу с т. н. «девиацией в Маму».
«31 марта 1957 года Демократическая партия Гвинеи (ДПГ) пришла к власти на выборах в законодательные органы, проведённых в соответствии с новым законом Деффера, получив пятьдесят шесть из шестидесяти мест в Гвинейской территориальной ассамблее. Эта победа завершила завоевание ДПГ власти на выборах после долгой и ожесточённой борьбы, начавшейся в 1946 году. Она также положила начало непростому периоду диархического правления, разделённого между французской колониальной администрацией и партией, которую многие считали самым радикальным и непримиримым движением в Западной Африке. На самом деле руководство ДПГ, и в особенности генеральный секретарь ДПГ Секу Туре, начиная с 1954 года, постепенно достигло modus vivendi с администрацией. Это сначала частичное, а затем все более искреннее сближение было основано отчасти на признании администрацией непреодолимой силы ДПГ, но также на ряде существенных уступок, сделанных ДПГ. Во-первых, Туре вывел почти все профсоюзы французской Западной Африки (включая Гвинею) из коммунистической ВКТ в Всеобщую конфедерации труда Африки (ВКТА). Во-вторых, ДПГ была более тесно интегрирована в межтерриториальную АДО под более консервативным общим руководством Феликса Уфуэ-Буаньи. И наконец, с 1955 года Туре сам решительно занял позицию уфуэтистов с её акцентом на франкофильские эмоциональные привязанности, антикоммунизмом и верой в бесклассовую природу африканского общества.»195
Этот антикоммунизм не только на словах, но и в действительности Секу Туре как раз и проявил в отношении секции АДО(г) в городе Маму. То, что эта секция оказалась наиболее радикальной из всех, может казаться удивительным, ведь город Маму находится в Фута-Джаллоне, как мы помним – наиболее исламизированном и консервативном регионе, а в самом городе десятилетиями железной хваткой правила джаллонская аристократия. Впрочем, были и другие факторы – объективные и субъективные, – которые влияли на радикализацию ячейки Маму. К объективным стоит отнести роль города: он был построен специально для утверждения в качестве столицы Футы и располагался между Конакри и Конканом, вторым городом Гвинеи, служа тем самым крупным административным и торговым центром196 с зарождающейся промышленностью и классом пролетариата. К субъективным – осуществляемые колониальной администрацией депортации, для которых город Маму, столица отдалённого консервативного региона, имеющая нуждающийся административный апарат – был идеальной целью. Переведённые сюда активисты, впоследствии ставшие лидерами организованной в 1951 году ячейки Маму – Диалло Сайфулайе, Бела Думбуйа, Плеа Кониба и Абудукар Дукуре были членами Коммунистических исследовательских групп и были близко знакомы с марксизмом197. Первые разногласия между наиболее радикальной секцией и партийным руководством ДПГ вышли на поверхность во время выборов 1956 года, где от Гвинеи в Национальную Ассамблею Франции избиралось три человека. Вследствие пропорциональной выборной системы было ясно, что от ДПГ будет избрано не более двух человек, а третий в списке был лишь формальностью. Именно такой формальностью изначально и был Диалло Сайфулайе, который, как тогда предполагалось, – мог составить конкуренцию Секу Туре в борьбе за лидерское кресло ДПГ. Впрочем, ДПГ пошла на компромисс, Диалло сделали вторым и разногласие замяли198. По крайней мере, на один год. После триумфальных выборов 1957 года буржуазная линия во главе с Секу Туре принялась за зачистку всех нежелательных элементов – сторонников независимости. Исключались и депортировались особо радикальные активисты, подавлялись манифестации и забастовки. После поддержки секцией Маму протестующего Синдиката работников сферы образовании, на неё посыпались репрессии. Она выступила с критикой Секу Туре в письме, ему же адрессованом, выпустила свой манифест, написала обращения к лидерам ФКП – Морису Торезу и Дюкло, а также зачем-то – Уфуэ-Буаньи, выпустила брошюры с объяснением позиции, которые были распостранены во всех 77 комитетах региона, постаралась наладить контакт с другими секцями, но всё же действовала хоть и организованно и слаженно, ноне вполне решительно – её надежды были связаны с возможностью проведения всеобщего конгресса ДПГ, на котором был бы обсуждён их манифест. Но такого конгресса проведено не было. Партийная верхушка не была заинтересована в его проведении. Вместо этого вся секция Маму и лично её лидер Плеа Кониба были исключены из партии199. Наступила изоляция секции: она всё ещё существовала, но не считалась секцией ДПГ, был запрет на какой-либо контакт с ней, а её саму до поры до времени игнорировали. Пока секция не запросила встречу. Попытка провести её в Маму оказалась провальной, и 27 делегатов направились в Конакри. Обсуждение происходило в штаб-квартире ДПГ. Вопросы, поднимаемые уставшими с дороги и голодными делагатами игнорировались, вместо этого фокус преднамеренно смещался на софистические разговоры об этике и принципах. Единственная надежда была на Сайфулайе Диалло, имевшего ещё значительное влияние внутри партии. Но он молчал200. В ту ночь гвинейский пролетариат потерпел поражение, от которого так и не смог отправиться. В то время, как делегаты находились в Конакри, к оставшимся функционерам секции была применена перешедшая в руки зарождающейся гвинейской буржуазии тактика переселения, существенно проредившая их ряды. На разрозненную секцию посыпалась куча необоснованной и клеветнической критики, а Секу Туре не постеснялся прибегнуть к националистической пропаганде,уповая на то, что если Рею Отре и Плеа Кониба что-то не нравится – «то пусть убираются туда, откуда они приехали» (у обоих были суданские201 корни). Последний так и сделал и покинул Гвинею. Руководство ДПГ принялось за реорганизацию ячейки, возложив задачу на Сафулайе Диалло. Лидером же стал раскаявшийся в своём инакомыслии Абудукар Дукуре202. Бела Думбуйа также отказался от былых взглядов и пригрел себе местечко регионального губернатора203. Секция Маму, хоть она была всего лишь секцией партии, была последней пролетарской организацией. Во время «Заговора учителей» расправлялись уже с отдельными профсоюзными лидерами и студенческими активистами. Вновь была надежда на Суфулайе Диалло, была надежда на возможную реорганизацию сил. Он вновь молчал. Сложно сказать, принимал ли какую-либо роль в этом Морикандиан Саване – вполне вероятно, что он по тем или иным причинам отказался от сопротивления, но и он был убит вследствие террора, затеяного после вторжения Португалии. И с большой вероятностью убит именно за свои коммунистические взгляды. Таким образом Секу Туре избавлялся от последних коммунистов в стране. Конечно, можно ещё говорить о политической борьбе между левой фракцией ДПГ во главе с шурином Секу Туре Мамади Кейтой и правой фракцией во главе с его (Туре) братом Исмаилом Туре в 1972 году204, однако есть огромные сомнения, что эта «левая фракция» была действительно левой.
Подбивая итоги, стоит сказать, что юному гвинейскому пролетариату не удалось, как завещал Сталин, создать собственную организацию, идущую в коалиции с мелкой буржуазии – ему не удалось ни удержать контроль над ДПГ, ни путём своевременного раскола противопоставить себя ей. Потому он был вынужден путаться в ногах гвинейской мелкой буржуазии до момента, пока та не подчинила себе государственную машину и не придавила его железной пятой. А авангард рабочего класса Советского Союза, забыв, кем он является, не заметил и этого. И предоставляя помощь гвинейской буржуазии, ни разу не задумался над тем, как там идут дела у гвинейского пролетариата.
Нкрумеизм-Туреизм
Бродит по Африке призрак – призрак нкрумеизма-туреизма. В феврале 1966 года президент Гвинеи, социал-демократ и друг Советского Союза Кваме Нкрума отправился с государственным визитом в Северный Вьетнам и Китай. Одновременно с этим в его стране произошёл переворот – власть взяла военная хунта во главе с Джозефом Артуром Анкрой. Эмигрировав в Гвинею, Нкрума в 1968 году создал Всеафриканскою Народную Революционную Партию (All-African People’s Revolutionary Party, или A-APRP), существующую и по сей день и стоящую на принципах нкрумеизма-туреизма. В 1972-мA-APRP распространила свою деятельность на Соединённые Штаты Америки, а затем и на весь мир, и наданный момент, по её же заявлениям, объединяет сторонников среди африканцев, рождённых в 33 странах205. Но что же это за принципы такие – нкрумеизм-туреизм? После признания A-APRP заслуг Маркса и Ленина идёт старая байка о том, что африканские условия кардинально отличаются от европейских, и что тут идеи и теории Маркса и Ленина нецелесообразны, ибо марксизм-ленинизм [внезапно]не учитывает роль крестьянства, а в Африке много крестьян, и что настоящий африканский научный социализм потому теперь покоится на плечах Кваме Нкрумы и Секу Туре. Шедевральные выводы, которые, впрочем, никуда A-APRP не привели. Ложность идеи создания единой международной революционной организации без национальных партий была известна издавна («борьба пролетариата по существу интернациональна, но по форме — национальна»), а ложность всех немарксистских социализмов показывает и A-APRP на своём собственном примере. За 55 лет существования, несмотря на ячейки по всему миру, организация не смогла установить хоть сколько-нибудь широкие связи с массами, а даже если бы и смогла – то вряд ли знала бы, как направить их движение в правильное русло. Отказ от марксизма означает отказ от пролетариата, отказ от социальной революции, и всё, что остаётся A-APRP – это делать статьи и видео с безграмотным оправданием режима Секу Туре206, пытаться оправдать новые псевдосоциалистические режимы207, выражать солидарность со скатившейся в социал-демократию Африканской партией независимости Гвинеи и Кабо-Верде208 и посещать всякие «Мировые Анти-Империалистические Платформы»209, неоднократно разоблаченные Коммунистической партией Греции210. Мы как марксисты приходим к тому же выводу, что и в статье о «социализме» в Венесуэле: «лишь партии, которые берут за свою основу материалистическое понимание мира, способны перестроить систему общественных отношений так, чтобы противоречия не сгладить, а снять; лишь коммунистические партии способны построить настоящий социализм»211.У A-APRP отсутствует материалистическое понимание мира, а о её «коммунистичности» и подавно говорить не приходится.
Детская болезнь эмоциональности старой и новой левизны
Если помощь Советского Союза Гвинее ещё можно, натянув сову на глобус, объяснить чисто «экономическими» интересами советского государства, то с оправданием режима Секу Туре Жаном Сюре-Каналем, редакторами журнала «World Marxist Review» и другими представителями мирового коммунистического движения дело обстоит немного интересней. Каковы причины того, что «коммунисты» пошли на поводу у практически открытого антикоммуниста, почему вместо попытки наладить связи с местными представителями марксизма, они предлагали безоговорочную поддержку Секу Туре? Неужели они настолько некритично восприняли лозунги про борьбу Гвинеи против империализма, за освобождение всей Африки? Вполне возможно. Сюре-Каналь был французом, а французское государство известно как обошлось с гвинейской страной. Гвинея? Гвинея пострадала от французского государства, она вынуждена была с ним некоторое время бороться, а потому заслуживала беспрекословной поддержки. При рассуждениях в таком ключе классовый марксистский анализ попросту заменялся на эмоциональные лозунги о сопротивлении колониализму, империализму, всему плохому! Подобное, но в условиях почти общемировой деградации коммунистического движения, а потому в ещё более глупой форме, мы можем видеть на примере Палестины, когда люди, зовущие себя коммунистами, согласны поддерживать служащую интересам империализма террористическую исламистскую организацию и заявлять о том, что пролетариат Израиля – легитимная военная цель.
Единственным из левого лагеря, кто сумел в то время дать правильную оценку режиму Суке Туре – несколько раз процитированный нами Б. Амельйон – человек, даже имя которого нам не удалось выяснить, несмотря на многочисленные попытки, но человек, судя по последней главе его работы причислявший себя к коммунистическому движению. Правильную оценку, пускай и пост-фактум, дала и Коммунистическая Партия Южной Африки в своём журнале «The African Communist»212. Однако далёкой от понимания ситуации была Коммунистическая партия Советского Союза. Откинув диалектику и марксистский анализ как ключ к пониманию процессов, происходящих на африканском континенте и вообще в мире, а также внутри своего государства, КПСС была обречена на собственное вырождение и неминуемое поражение в борьбе против капитализма. И не важно, сколько вас противостоит миру – ничтожных десять человек или целая 1/6 суши по Константинову – без правильной классовой оценки ситуации вы обречены на погибель. С ней же, напротив, вы имеете возможность превратить количество в качество, а качество – в количество и, в конечном итоге, выиграть битву.
Две концепции национально-освободительной борьбы: сталинская или хрущёвская?
Во второй половине XX века среди стран «арабского социализма» была популярна утопическая классово-примирительная теория всеобщего благосостояния, согласно которой в обществе, преимущественно свободном от эксплуатации иностранным капиталом, возможно мирное развитие различных классовых сил. Эта теория была воплощена в жизнь и в Гвинее, пусть и под несколько другим соусом. Впрочем, было это всеобщим благосостоянием, или же всеобщей нищетой – вопрос интересный. Однако, как вновь доказывает история, любая теория, не ставящая своей целью обретение пролетариатом власти и её осуществление, служит на деле исключительно врагам пролетариата. Но в главном пролетарском государстве – СССР – считали иначе. К каким только уловкам не прибегали советские «теоретики», дабы оправдать режим Секу Туре. Разберём на основе примеров, данных в книге Артура Джея Клингхоффера «Soviet Perspectives on African socialism» – сами первоисточники нам недоступны. Итак, свою книгу Клингхоффер начинает с разбора сталинских позиций по поводу национально-освободительного движения в Африке. «Большое внимание уделялось африканскому пролетариату. Он считался единственной силой, способной добиться подлинной независимости африканских народов. Согласно двухэтапной теории колониальной революции, за буржуазно-демократической революцией должна была последовать социалистическая революция, возглавляемая пролетариатом. Как уже отмечалось, независимость, достигнутая под руководством национальной буржуазии в результате буржуазно-демократической революции, была признана Советами фикцией. Потехин заявляет: „Сталинская теория колониальной революции исходит из того, что решение колониального вопроса, освобождение угнетённых народов от колониального рабства, невозможно без пролетарской революции и свержения империализма“. Он утверждал, что национальная буржуазия хочет независимости, но она стремится идти по капиталистическому пути и избегает демократических реформ. „Товарищ Сталин предупреждал, и прошедшее столетие полностью подтвердило, что полная и окончательная победа колониальной революции возможна только при руководящей роли пролетариата“. Написав это в 1953 году, Потехин188 утверждал, что национально-освободительное движение переходит во вторую стадию, и что руководство национальной буржуазии сменяется руководством пролетариата. Крестьянство и мелкая буржуазия были союзниками пролетариата в этом начинании»189.
Эта непонятная Клингхофферу c его буржуазной узостью мысль и является единственно верным с марксистской точки зрения взглядом на национально-освободительную борьбу, опирающимся на конкретный анализ роли пролетариата как единственного до конца революционного класса, который может своими руками построить новый, коммунистический способ производства. Однако от такого взгляда резко отошли при Хрущёве. «Новый хрущевский подход к африканским делам начал выкристаллизовываться примерно во время Бандунгской конференции лидеров стран Азии и Африки (апрель 1955 года). Знаменательно, что начало этому новому отношению было положено сразу после отставки Георгия Маленкова с поста председателя Совета министров СССР (февраль 1955 года) и его замены Николаем Булганиным. Будучи первым секретарём Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, Никита Хрущёв создал правящую комбинацию с Булганиным, в которой Хрущев был старшим партнёром. В марте 1958 года Хрущёв стал единоличным лидером, сменив Булганина на посту Председателя Совета Министров, но сохранив за собой пост Первого секретаря Коммунистической партии. (…) Сталинская сентенция о том, что только пролетарское руководство освободительной борьбой может привести к подлинной национальной независимости африканских народов, была отвергнута в соответствии с новой советской политической линией. Если статья за подписью „Комментатор“, появившаяся в апрельском номере журнала „Международные отношения“ за 1955 год, ещё отражала старую сталинскую линию по этому вопросу, то редакционная статья в „Советском Востоковедении“ в 1956 году, сразу после двадцатого съезда партии, атаковала сталинскую точку зрения: „Марксистско-ленинский тезис хорошо известен, что во время общего кризиса капитализма пролетариат в колониальных и зависимых странах, где капитализм относительно высоко развит, может добиться гегемонии национально-освободительной и антифеодальной революции..... Из этого абсолютно правильного тезиса, однако, был сделан неверный вывод о том, что только руководство пролетариата может обеспечить победу в борьбе за национальную независимость.“»190
«Неверный вывод о том, что только руководство пролетариата может обеспечить победу в борьбе за национальную независимость». Что же, хрущёвская софистика в деле. В то время, как Сталин кристально ясно говорил о том, что подлинная независимость нации невозможна без пролетарской революции, без пролетарского государства, хрущёвская «теория», очевидно, говорит о независимости неподлинной, о независимости формальной, той, которая была обретена, например, Гвинеей в 1958 году. Сталин разбил эти выводы ещё задолго до их появления. Выводы, которые как бы говорят нам о том, что независимости не нужно добиваться, её не нужно оберегать, нам всего лишь нужно ею довольствоваться и всячески оправдывать, сколь бы формальной она ни была. Блестящая идея, отлично реализованная на практике и в теории.
Некапитализм, не иначе
Блестящая идея, отлично реализованная на практике поддержки антикоммунистических режимов и в теории некапитализма. Именно с точки зрения некапитализма советскими теоретиками и самим светочем гвинейской демократии – Секу Туре – оправдывался гвинейский режим. Однако идея некапитализма – не то, чем она на первый взгляд кажется. Логично было бы предположить, что суть её заключается в том, что африканские страны не могут из-за отсутствия всех необходимых материальных предпосылок стать на социалистический путь развития, а потому должны преодолеть сначала некапиталистический путь развития. Закон двойного отрицания, эге. Но это неверно. Советская теория зашла гораздо, гораздо дальше. По мнению большинства её представителей, капитализм в Африке или находился на очень низкой стадии, или его вообще не было, однако в африканских условиях можно было попросту пойти в обход и как нечего делать пропустить целый способ производства191. Критикуя такой взгляд с позиции того, что нам нужно строить не социализм, а капитализм, Клингхоффер вслед за советскими «специалистами» упускал то, что капитализм в Африке уже был господствующим строем, что он был «экспортирован» европейцами ещё со времён чисто торговых отношений, что при колонизации европейские монополии внедряли повсеместно товарно-денежные отношения, что феодальные институты они подчиняли капитализму, что Африка может пропустить не капитализм, а только стадию свободной конкуренции, и что в XX веке она уже повсеместно втянута в империалистическую систему. Однако советским теоретиками представлялось, что у национальной элиты есть выбор, подобный выбору предыстории персонажа в компьютерной игре – выбор между началом построения капитализма и между началом построения… Некапитализма. Который, в свою очередь, потом приведёт нас к социализму. Но если издавна известно, что социализм выходит из лона капитализма, а по мнению адептов некапитализма именно некапитализм является вариантом мимо проходящего развития к социализму, то не является ли этот некапитализм тем же капитализмом, только «не»капитализмом192? Однако отвлечёмся от чистой теоритизации и посмотрим, как идея «некапитализма» осуществлялась на практике. А осуществлялась она очень просто. Гвинея объявлялась одной из стран, идущих по некапиталистическому пути развития193, а Советский Союз во главе с Хрущёвым путём экономических подачек и постройки заводов пытался «приобщить» её к социалистическому лагерю. Когда же это не получалось, а Гвинея начинала рыночные реформы и улучшала отношения с США и Францией, её не критиковали – о ней попросту умалчивали: про неё почти нигде не писали, а фокус внимания смещался на другие страны194. Когда она вновь «возвращалась на некапиталистический путь развития» – всё повторялось, только с меньшим энтузиазмом. И так далее, и тому подобное. Оппозиционным и действительно революционным силам внимания со стороны Советского Союза не уделялось. А ведь они были.
Ещё раз о «девиации в Маму», или причины поражения коммунистов
Начиная с основания гвинейской ячейки Африканского Демократического Объединения в ней шла непрерывная борьба между двумя линиями – пролетарской и буржуазной. В 1957 году между ними произошло крупное столкновение, и пролетариат одержал тогда столь же крупное поражение. Но не был до конца разбит и продолжал влиять на политику ДПГ.После обретения Гвинеей независимости пролетариат путём репрессий выдворялся из политики, пока к средине 70-х его линия не была полностью уничтожена.
Про классовую борьбу времён борьбы Гвинеи за независимость мы уже писали, различие между пролетарской и буржуазной линией тут было во многом тождественно различию позиций по национально-освободительному вопросу: пролетарскую линию тут стоит соотносить с линией Д’Арбуссье, буржуазную – с линией Уфуэ-Баньи. И потому можно сказать, что в первые годы доминировала именно первая, и что Секу Туре как лидер гвинейской секции АДО был её представителем. Это изменилось в начале 50-х, когда Секу Туре высказался за поддержку позиции Уфуэ-Баньи, а Морикандиан Саване покинул партию. В это время линия пролетариата смещается на низовые чины партии, внепартийные элементы, профсоюзы и студенческие формирования. На протяжении нескольких лет антагонистическое противостояние между верхами и низами партии накапливалось, пока не вылилось в борьбу с т. н. «девиацией в Маму».
«31 марта 1957 года Демократическая партия Гвинеи (ДПГ) пришла к власти на выборах в законодательные органы, проведённых в соответствии с новым законом Деффера, получив пятьдесят шесть из шестидесяти мест в Гвинейской территориальной ассамблее. Эта победа завершила завоевание ДПГ власти на выборах после долгой и ожесточённой борьбы, начавшейся в 1946 году. Она также положила начало непростому периоду диархического правления, разделённого между французской колониальной администрацией и партией, которую многие считали самым радикальным и непримиримым движением в Западной Африке. На самом деле руководство ДПГ, и в особенности генеральный секретарь ДПГ Секу Туре, начиная с 1954 года, постепенно достигло modus vivendi с администрацией. Это сначала частичное, а затем все более искреннее сближение было основано отчасти на признании администрацией непреодолимой силы ДПГ, но также на ряде существенных уступок, сделанных ДПГ. Во-первых, Туре вывел почти все профсоюзы французской Западной Африки (включая Гвинею) из коммунистической ВКТ в Всеобщую конфедерации труда Африки (ВКТА). Во-вторых, ДПГ была более тесно интегрирована в межтерриториальную АДО под более консервативным общим руководством Феликса Уфуэ-Буаньи. И наконец, с 1955 года Туре сам решительно занял позицию уфуэтистов с её акцентом на франкофильские эмоциональные привязанности, антикоммунизмом и верой в бесклассовую природу африканского общества.»195
Этот антикоммунизм не только на словах, но и в действительности Секу Туре как раз и проявил в отношении секции АДО(г) в городе Маму. То, что эта секция оказалась наиболее радикальной из всех, может казаться удивительным, ведь город Маму находится в Фута-Джаллоне, как мы помним – наиболее исламизированном и консервативном регионе, а в самом городе десятилетиями железной хваткой правила джаллонская аристократия. Впрочем, были и другие факторы – объективные и субъективные, – которые влияли на радикализацию ячейки Маму. К объективным стоит отнести роль города: он был построен специально для утверждения в качестве столицы Футы и располагался между Конакри и Конканом, вторым городом Гвинеи, служа тем самым крупным административным и торговым центром196 с зарождающейся промышленностью и классом пролетариата. К субъективным – осуществляемые колониальной администрацией депортации, для которых город Маму, столица отдалённого консервативного региона, имеющая нуждающийся административный апарат – был идеальной целью. Переведённые сюда активисты, впоследствии ставшие лидерами организованной в 1951 году ячейки Маму – Диалло Сайфулайе, Бела Думбуйа, Плеа Кониба и Абудукар Дукуре были членами Коммунистических исследовательских групп и были близко знакомы с марксизмом197. Первые разногласия между наиболее радикальной секцией и партийным руководством ДПГ вышли на поверхность во время выборов 1956 года, где от Гвинеи в Национальную Ассамблею Франции избиралось три человека. Вследствие пропорциональной выборной системы было ясно, что от ДПГ будет избрано не более двух человек, а третий в списке был лишь формальностью. Именно такой формальностью изначально и был Диалло Сайфулайе, который, как тогда предполагалось, – мог составить конкуренцию Секу Туре в борьбе за лидерское кресло ДПГ. Впрочем, ДПГ пошла на компромисс, Диалло сделали вторым и разногласие замяли198. По крайней мере, на один год. После триумфальных выборов 1957 года буржуазная линия во главе с Секу Туре принялась за зачистку всех нежелательных элементов – сторонников независимости. Исключались и депортировались особо радикальные активисты, подавлялись манифестации и забастовки. После поддержки секцией Маму протестующего Синдиката работников сферы образовании, на неё посыпались репрессии. Она выступила с критикой Секу Туре в письме, ему же адрессованом, выпустила свой манифест, написала обращения к лидерам ФКП – Морису Торезу и Дюкло, а также зачем-то – Уфуэ-Буаньи, выпустила брошюры с объяснением позиции, которые были распостранены во всех 77 комитетах региона, постаралась наладить контакт с другими секцями, но всё же действовала хоть и организованно и слаженно, ноне вполне решительно – её надежды были связаны с возможностью проведения всеобщего конгресса ДПГ, на котором был бы обсуждён их манифест. Но такого конгресса проведено не было. Партийная верхушка не была заинтересована в его проведении. Вместо этого вся секция Маму и лично её лидер Плеа Кониба были исключены из партии199. Наступила изоляция секции: она всё ещё существовала, но не считалась секцией ДПГ, был запрет на какой-либо контакт с ней, а её саму до поры до времени игнорировали. Пока секция не запросила встречу. Попытка провести её в Маму оказалась провальной, и 27 делегатов направились в Конакри. Обсуждение происходило в штаб-квартире ДПГ. Вопросы, поднимаемые уставшими с дороги и голодными делагатами игнорировались, вместо этого фокус преднамеренно смещался на софистические разговоры об этике и принципах. Единственная надежда была на Сайфулайе Диалло, имевшего ещё значительное влияние внутри партии. Но он молчал200. В ту ночь гвинейский пролетариат потерпел поражение, от которого так и не смог отправиться. В то время, как делегаты находились в Конакри, к оставшимся функционерам секции была применена перешедшая в руки зарождающейся гвинейской буржуазии тактика переселения, существенно проредившая их ряды. На разрозненную секцию посыпалась куча необоснованной и клеветнической критики, а Секу Туре не постеснялся прибегнуть к националистической пропаганде,уповая на то, что если Рею Отре и Плеа Кониба что-то не нравится – «то пусть убираются туда, откуда они приехали» (у обоих были суданские201 корни). Последний так и сделал и покинул Гвинею. Руководство ДПГ принялось за реорганизацию ячейки, возложив задачу на Сафулайе Диалло. Лидером же стал раскаявшийся в своём инакомыслии Абудукар Дукуре202. Бела Думбуйа также отказался от былых взглядов и пригрел себе местечко регионального губернатора203. Секция Маму, хоть она была всего лишь секцией партии, была последней пролетарской организацией. Во время «Заговора учителей» расправлялись уже с отдельными профсоюзными лидерами и студенческими активистами. Вновь была надежда на Суфулайе Диалло, была надежда на возможную реорганизацию сил. Он вновь молчал. Сложно сказать, принимал ли какую-либо роль в этом Морикандиан Саване – вполне вероятно, что он по тем или иным причинам отказался от сопротивления, но и он был убит вследствие террора, затеяного после вторжения Португалии. И с большой вероятностью убит именно за свои коммунистические взгляды. Таким образом Секу Туре избавлялся от последних коммунистов в стране. Конечно, можно ещё говорить о политической борьбе между левой фракцией ДПГ во главе с шурином Секу Туре Мамади Кейтой и правой фракцией во главе с его (Туре) братом Исмаилом Туре в 1972 году204, однако есть огромные сомнения, что эта «левая фракция» была действительно левой.
Подбивая итоги, стоит сказать, что юному гвинейскому пролетариату не удалось, как завещал Сталин, создать собственную организацию, идущую в коалиции с мелкой буржуазии – ему не удалось ни удержать контроль над ДПГ, ни путём своевременного раскола противопоставить себя ей. Потому он был вынужден путаться в ногах гвинейской мелкой буржуазии до момента, пока та не подчинила себе государственную машину и не придавила его железной пятой. А авангард рабочего класса Советского Союза, забыв, кем он является, не заметил и этого. И предоставляя помощь гвинейской буржуазии, ни разу не задумался над тем, как там идут дела у гвинейского пролетариата.
Нкрумеизм-Туреизм
Бродит по Африке призрак – призрак нкрумеизма-туреизма. В феврале 1966 года президент Гвинеи, социал-демократ и друг Советского Союза Кваме Нкрума отправился с государственным визитом в Северный Вьетнам и Китай. Одновременно с этим в его стране произошёл переворот – власть взяла военная хунта во главе с Джозефом Артуром Анкрой. Эмигрировав в Гвинею, Нкрума в 1968 году создал Всеафриканскою Народную Революционную Партию (All-African People’s Revolutionary Party, или A-APRP), существующую и по сей день и стоящую на принципах нкрумеизма-туреизма. В 1972-мA-APRP распространила свою деятельность на Соединённые Штаты Америки, а затем и на весь мир, и наданный момент, по её же заявлениям, объединяет сторонников среди африканцев, рождённых в 33 странах205. Но что же это за принципы такие – нкрумеизм-туреизм? После признания A-APRP заслуг Маркса и Ленина идёт старая байка о том, что африканские условия кардинально отличаются от европейских, и что тут идеи и теории Маркса и Ленина нецелесообразны, ибо марксизм-ленинизм [внезапно]не учитывает роль крестьянства, а в Африке много крестьян, и что настоящий африканский научный социализм потому теперь покоится на плечах Кваме Нкрумы и Секу Туре. Шедевральные выводы, которые, впрочем, никуда A-APRP не привели. Ложность идеи создания единой международной революционной организации без национальных партий была известна издавна («борьба пролетариата по существу интернациональна, но по форме — национальна»), а ложность всех немарксистских социализмов показывает и A-APRP на своём собственном примере. За 55 лет существования, несмотря на ячейки по всему миру, организация не смогла установить хоть сколько-нибудь широкие связи с массами, а даже если бы и смогла – то вряд ли знала бы, как направить их движение в правильное русло. Отказ от марксизма означает отказ от пролетариата, отказ от социальной революции, и всё, что остаётся A-APRP – это делать статьи и видео с безграмотным оправданием режима Секу Туре206, пытаться оправдать новые псевдосоциалистические режимы207, выражать солидарность со скатившейся в социал-демократию Африканской партией независимости Гвинеи и Кабо-Верде208 и посещать всякие «Мировые Анти-Империалистические Платформы»209, неоднократно разоблаченные Коммунистической партией Греции210. Мы как марксисты приходим к тому же выводу, что и в статье о «социализме» в Венесуэле: «лишь партии, которые берут за свою основу материалистическое понимание мира, способны перестроить систему общественных отношений так, чтобы противоречия не сгладить, а снять; лишь коммунистические партии способны построить настоящий социализм»211.У A-APRP отсутствует материалистическое понимание мира, а о её «коммунистичности» и подавно говорить не приходится.
Детская болезнь эмоциональности старой и новой левизны
Если помощь Советского Союза Гвинее ещё можно, натянув сову на глобус, объяснить чисто «экономическими» интересами советского государства, то с оправданием режима Секу Туре Жаном Сюре-Каналем, редакторами журнала «World Marxist Review» и другими представителями мирового коммунистического движения дело обстоит немного интересней. Каковы причины того, что «коммунисты» пошли на поводу у практически открытого антикоммуниста, почему вместо попытки наладить связи с местными представителями марксизма, они предлагали безоговорочную поддержку Секу Туре? Неужели они настолько некритично восприняли лозунги про борьбу Гвинеи против империализма, за освобождение всей Африки? Вполне возможно. Сюре-Каналь был французом, а французское государство известно как обошлось с гвинейской страной. Гвинея? Гвинея пострадала от французского государства, она вынуждена была с ним некоторое время бороться, а потому заслуживала беспрекословной поддержки. При рассуждениях в таком ключе классовый марксистский анализ попросту заменялся на эмоциональные лозунги о сопротивлении колониализму, империализму, всему плохому! Подобное, но в условиях почти общемировой деградации коммунистического движения, а потому в ещё более глупой форме, мы можем видеть на примере Палестины, когда люди, зовущие себя коммунистами, согласны поддерживать служащую интересам империализма террористическую исламистскую организацию и заявлять о том, что пролетариат Израиля – легитимная военная цель.
Единственным из левого лагеря, кто сумел в то время дать правильную оценку режиму Суке Туре – несколько раз процитированный нами Б. Амельйон – человек, даже имя которого нам не удалось выяснить, несмотря на многочисленные попытки, но человек, судя по последней главе его работы причислявший себя к коммунистическому движению. Правильную оценку, пускай и пост-фактум, дала и Коммунистическая Партия Южной Африки в своём журнале «The African Communist»212. Однако далёкой от понимания ситуации была Коммунистическая партия Советского Союза. Откинув диалектику и марксистский анализ как ключ к пониманию процессов, происходящих на африканском континенте и вообще в мире, а также внутри своего государства, КПСС была обречена на собственное вырождение и неминуемое поражение в борьбе против капитализма. И не важно, сколько вас противостоит миру – ничтожных десять человек или целая 1/6 суши по Константинову – без правильной классовой оценки ситуации вы обречены на погибель. С ней же, напротив, вы имеете возможность превратить количество в качество, а качество – в количество и, в конечном итоге, выиграть битву.
Присоединяйтесь к кружкам РФУ, присоединяйтесь к самой организации, вместе мы сможем противопоставить действительный марксистский анализ мировому империализму и его слугам с правого и левого флангов.
В следующей статье цикла расскажем о том, как нужно бороться с африканскими ведьмами. Au revoir, camaraden!
20 апреля 2025
Автор: Редакция РФУ
Ильенков, Э. В. Диалектическая логика: Очерки истории и теории. Очерк 12. Диалектическая взаимосвязь логического и исторического
Як соціалізм руйнував Африку | Ціна держави.
Да и в целом эта мысль ретранслируется украинской государственной и (псевдо)научной пропагандой.
Да и в целом эта мысль ретранслируется украинской государственной и (псевдо)научной пропагандой.
Благодарить за её развитие стоит верблюдов, использование которых позволило построить слаженную торговую сеть от Северной Африки до реки Нигер.
Хотя некоторые представители народов малинка и дьялонке, конвертированные в ислам, выступали на стороне фульбе-мусульман. См. Jean Suret-Canale «The Fouta-Djalon Chieftaincy», I. The State of Fouta-Djalon.
Jean Suret-Canale «The Fouta-Djalon Chieftaincy», I. The State of Fouta-Djalon.
Там же.
Самори Туре, предположительно прадед главного героя нашей статьи – Секу Туре и предводитель исламской империи Вассулу, на протяжении пятнадцати лет успешно оказывал сопротивлении французскому империализму, пока в ходе Третьей войны Малинки Гвинея не перешла окончательно под контроль Франции.
Jean Suret-Canale «The Fouta-Djalon Chieftaincy», 2. The conquest of Fouta-Djalon.
Подробней об этом периоде в истории Гвинеи смотри Jean Suret-Canale «Guinea in the Colonial System».
Список литературы
1. Ильенков, Э. В. Диалектическая логика: Очерки истории и теории. Очерк 12. Диалектическая взаимосвязь логического и исторического.
2. Як соціалізм руйнував Африку | Ціна держави. Да и в целом эта мысль ретранслируется украинской государственной и (псевдо)научной пропагандой.
3. Благодарить за её развитие стоит верблюдов, использование которых позволило построить слаженную торговую сеть от Северной Африки до реки Нигер.
4. Хотя некоторые представители народов малинка и дьялонке, конвертированные в ислам, выступали на стороне фульбе-мусульман. См. Jean Suret-Canale «The Fouta-Djalon Chieftaincy», I. The State of Fouta-Djalon.
6. Jean Suret-Canale «The Fouta-Djalon Chieftaincy», I. The State of Fouta-Djalon.
7. Там же.
8. Самори Туре, предположительно прадед главного героя нашей статьи – Секу Туре и предводитель исламской империи Вассулу, на протяжении пятнадцати лет успешно оказывал сопротивлении французскому империализму, пока в ходе Третьей войны Малинки Гвинея не перешла окончательно под контроль Франции.
9. Jean Suret-Canale «The Fouta-Djalon Chieftaincy», 2. The conquest of Fouta-Djalon.
11. Подробней об этом периоде в истории Гвинеи смотри Jean Suret-Canale «Guinea in the Colonial System».
33. Там же.
34. COMPAGNIE MINIÈRE DE CONAKRY (fer), ст. 6.
188. Имеется ввиду Иван Изосимович Потехин (1903–1964). Советский учёный-африканист, первый директор Института Африки РАН. Доктор исторических наук. Конъюнктурщик. До смерти Сталина продвигал сталинскую позицию по африканскому вопросу, после прихода к власти Хрущёва – хрущёвскую.
189. Klinghoffer, Artur Kay. Soviet perspectives on African socialism.
190. Там же, ст. 44, 45-46.
191. Там же, ст. 192.
192. «Отрицательная определённость – она всё-таки определённость того, что мы отрицаем, потому некапиталистическое развитие – это капиталистическое развитие, но только «не»капиталистическое развитие» – Александр Сегал в интервью одному «праворадикальному марксистскому изданию», План Б – Самоидентификация. Кто мы есть? | Александр Сегал
193. Klinghoffer, Artur Kay. Soviet perspectives on African socialism, ст. 106.
194. Там же, ст. 109.
195. Johnson, R. W. The Parti Démocratique de Guinée and the Mamou ‘deviation’. The Context.
196. Там же, The development of the Mamou PDG section.
197. Там же
198. Там же
199. Там же, Deviation and Exclusion
200. Там же, The triumph of the leadership
201. Имеется ввиду Французский Судан, сейчас – Мали и Сенегал
202. Там же
203. Там же, The Aftermath. В этом разделе автор зачем-то пускается во внеисторические рассуждения о схожести ситуации с происходящим во время борьбы с левой оппозицией в Советском Союзе и в ФКП во время исключения Дориота. Аналогия с Турцией, однако, действительно близка к реальному положению дел
204. Mamadi Keïta – Wikipedia или Ismaël Touré – Wikipedia
205. A-APRP Official Website – Historical Origins of the A-APRP
206. В видео «The Unknown Contributions of Sekou Toure» на их канале, к примеру, высказывается тейк, что после смещения Секу Туре в лагере Буаро замучили гораздо больше людей, чем за всё время его правления, когда лагерь закрыли в 1984 году.
207. aarpintl – A Brief History and Update on Venezuela.
208. A-APRP Official Website – A-APRP Members sends revolutionary love to the PAIGC for the 50th Anniversary of the proclamation of Independence of Guinea-Bissau.
209. aarpintl – Intervention at World Anti imperialist Platform in Greece.
210. In Defence of Communism – «The anti-communist character of the so-called "World Anti-imperialist Platform"», «Note on the "World Anti-Imperialist Platform" Meeting in Caracas»; «On the so-called World Anti-Imperialist Platform and its damaging and disorienting position» – Article by the International Relations Section of the CC of the KKE; и др.
211. Максимильян «Антиимпериалистический боливарианский режим Чавеса-Мадуро и Компартия Венесуэлы» Послесловие.
212. The African Communist No 100, First Quarter 1985, стр. 56-65.