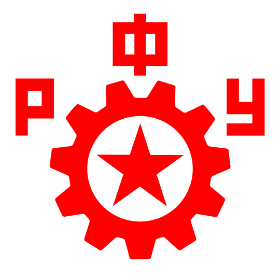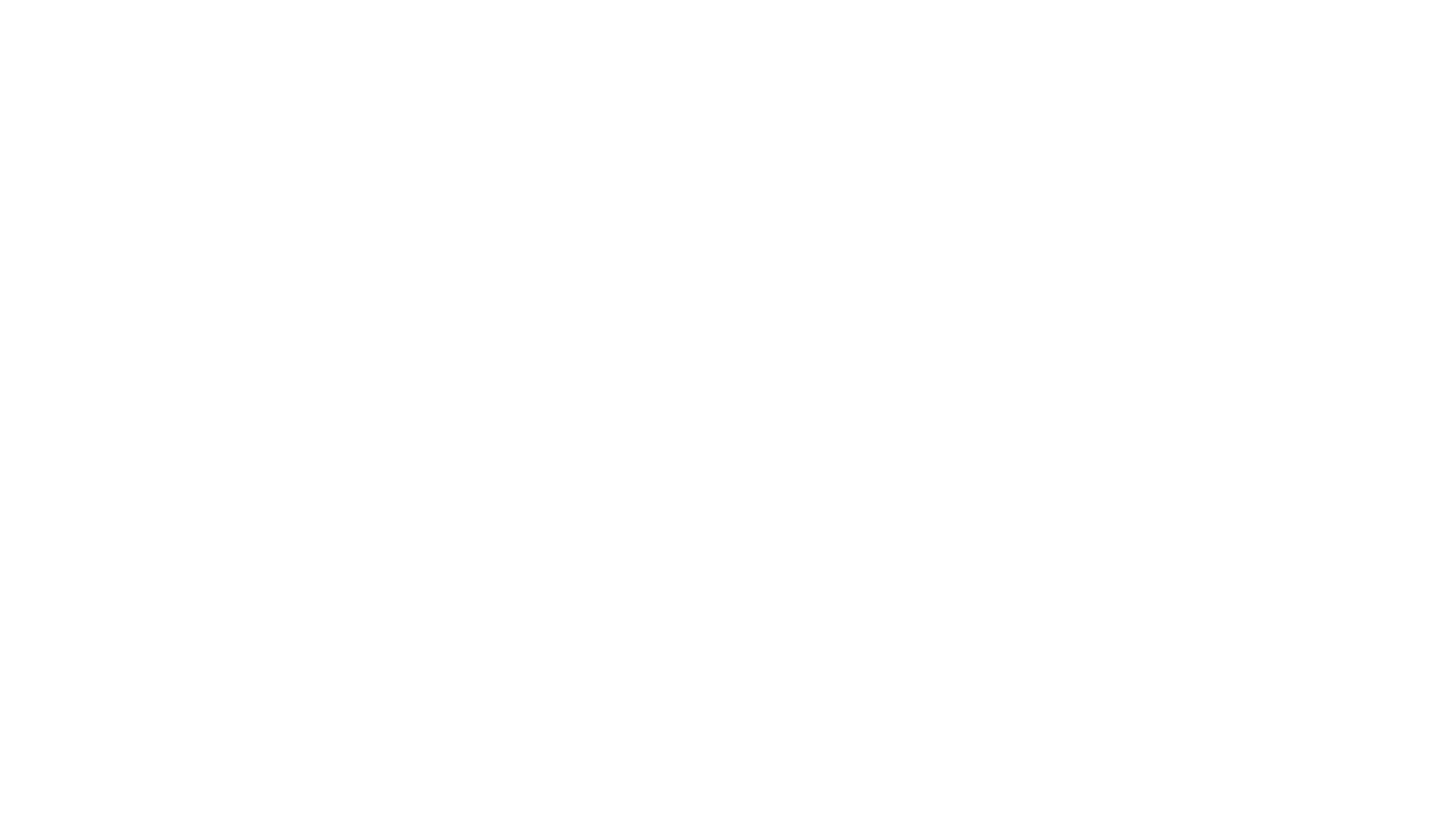
Сущность «боливийского социализма»
Время чтения ~ 1 час 6 минут
Предисловие
Для борцов с империализмом по всему миру Боливия — страна знаковая: Верхнее Перу (тогдашнее название региона) было последним рубежом испанской колониальной империи в континентальной Америке, Республика Боливия была первым латиноамериканским государством, которое попыталось избавиться от влияния иностранных империалистов; здесь героически сражался и погиб партизанский отряд во главе с команданте Че Геварой, и именно здесь на рубеже тысячелетий неолиберальные реформаторы в своем стремлении к прибыли зажрались, как нигде в мире! Пришедший к власти в 2005 году Эво Моралес и его партия «Движение к социализму» (Movimiento al Socialismo) пафосно провозгласили себя маяком антиимпериалистической борьбы. Но заслуженно ли?
Эта статья была написана еще в 2023 году с привлечением к обсуждению товарищей, связь с которыми, к сожалению, давно потеряна — однако автор хотел бы выразить этим товарищам благодарность. Отдельно благодарю товарища из Группы Изучения Современного Марксизма за консультацию и наводку. Надеюсь, эта статья когда-нибудь попадется вам на глаза, и я смогу поблагодарить вас за помощь!
Также необходимо отметить, что при написании были учтены ценные замечания нашего ушедшего идреда, за что автор выражает ему благодарность.
Эта статья была написана еще в 2023 году с привлечением к обсуждению товарищей, связь с которыми, к сожалению, давно потеряна — однако автор хотел бы выразить этим товарищам благодарность. Отдельно благодарю товарища из Группы Изучения Современного Марксизма за консультацию и наводку. Надеюсь, эта статья когда-нибудь попадется вам на глаза, и я смогу поблагодарить вас за помощь!
Также необходимо отметить, что при написании были учтены ценные замечания нашего ушедшего идреда, за что автор выражает ему благодарность.
1. Введение в Боливию
Многонациональное государство Боливия — это южноамериканская страна, население которой составляет более 11,5 млн человек. Две трети населения — представители индейских народов кечуа и аймара, заселяющие плоскогорье Пуна и высокогорные долины Анд. В городах и низменных районах преобладают испаноязычные боливийцы, главным образом метисы и креолы испанского происхождения. В тропических лесах на востоке страны проживает множество малых индейских народностей.
Как известно каждому школьнику, Южная Америка, а особенно область Анд, располагает колоссальными запасами полезных ископаемых. Важнейшими полезными ископаемыми Боливии являются сурьма (1-е место в мире, 21 % мировых запасов), олово (3-е место, 14 %) и вольфрам. Боливийские оловянные месторождения содержат комплексные руды, богатые оловом и серебром. Там же добывают золото, вольфрам, свинец, цинк, сурьму и висмут. В Альтиплано расположены месторождения самородной меди, цинка, свинца и серебра. Россыпные месторождения золота обнаружены в бассейне реки Бени и на реке Типуани (самая богатая россыпь в Южной Америке). Запасы нефти и газа сосредоточены в Центрально-Предандийском бассейне.
Боливия обрела независимость от Королевства Испании в ходе Войны за независимость испанских колоний в Америке 1810–1826 годов. Основную движущую силу движения за независимость составляла креольская землевладельческая знать, торговая буржуазия и местная интеллигенция. В политической жизни молодой страны бал правили богатые землевладельцы и торговцы. Отсталость сельского хозяйства, экономическая разобщенность и узости внутреннего рынка тормозили развитие капиталистических отношений. Если в Европе в рамках буржуазных революций активно проводили «раскулачивание» аристократии на землю, то в Латинской Америке ситуация сложилась иным образом: в, казалось бы, буржуазных республиках на деревне сохранялись практически феодальные отношения между крестьянами и латифундистами. Сельскохозяйственная отрасль избавилась от большей части феодальных пережитков и перешла на капиталистические рельсы лишь после государственного переворота 1952 года.
Во второй основной отрасли народного хозяйства — горнодобывающей промышленности — до середины XIX столетия преобладал рабский труд. Впоследствии в ней произошло оживление, связанное с заменой рабского труда наемным, причем значительный процент этой отрасли оказался в руках английских компаний, получивших концессии на разработку рудников. С укреплением в добывающей промышленности Боливии позиций сперва британского, а в XX веке и американского (США) капитала, страна попала в сферу влияния империалистических государств и стала их разменной монетой. Борьба британского и американского капиталов за влияние в Южной Америке втянула Боливию в ряд империалистических войн: Тихоокеанскую 1879–1883 с Чили, в ходе которой Боливия лишилась доступа к Тихому океану, и Чакскую 1932–1935 — когда Парагваю отошла область Чако-Бореаль, считавшаяся тогда нефтеносной.
Государственные перевороты — не редкость для стран Латинской Америки, но Боливия занимает по этому показателю особое место: со времен провозглашения независимости в 1825 году здесь произошло порядка 190 государственных переворотов и мятежей. Оставив за скобками ранние годы боливийского государства, когда власть пытались делить меж собой латиноамериканские «Наполеоны», обратим внимание на события второй половины XX столетия. Ослабление экономических связей с европейскими странами в ходе Второй мировой войны привело к развитию местной буржуазии. Усиление позиций местной буржуазии вело ее к конфронтации с иностранным капиталом, чем можно объяснить всплеск переворотов в Боливии в послевоенные годы. В этот период сложился архетип: круги военных, за спиной которых стоял американский капитал, и их коллеги, выражавшие интересы местной буржуазии (часто даже прикрываясь социалистическими лозунгами), поочередно друг друга свергали. Лишь в 1982 году было восстановлено гражданское управление.
Как известно каждому школьнику, Южная Америка, а особенно область Анд, располагает колоссальными запасами полезных ископаемых. Важнейшими полезными ископаемыми Боливии являются сурьма (1-е место в мире, 21 % мировых запасов), олово (3-е место, 14 %) и вольфрам. Боливийские оловянные месторождения содержат комплексные руды, богатые оловом и серебром. Там же добывают золото, вольфрам, свинец, цинк, сурьму и висмут. В Альтиплано расположены месторождения самородной меди, цинка, свинца и серебра. Россыпные месторождения золота обнаружены в бассейне реки Бени и на реке Типуани (самая богатая россыпь в Южной Америке). Запасы нефти и газа сосредоточены в Центрально-Предандийском бассейне.
Боливия обрела независимость от Королевства Испании в ходе Войны за независимость испанских колоний в Америке 1810–1826 годов. Основную движущую силу движения за независимость составляла креольская землевладельческая знать, торговая буржуазия и местная интеллигенция. В политической жизни молодой страны бал правили богатые землевладельцы и торговцы. Отсталость сельского хозяйства, экономическая разобщенность и узости внутреннего рынка тормозили развитие капиталистических отношений. Если в Европе в рамках буржуазных революций активно проводили «раскулачивание» аристократии на землю, то в Латинской Америке ситуация сложилась иным образом: в, казалось бы, буржуазных республиках на деревне сохранялись практически феодальные отношения между крестьянами и латифундистами. Сельскохозяйственная отрасль избавилась от большей части феодальных пережитков и перешла на капиталистические рельсы лишь после государственного переворота 1952 года.
Во второй основной отрасли народного хозяйства — горнодобывающей промышленности — до середины XIX столетия преобладал рабский труд. Впоследствии в ней произошло оживление, связанное с заменой рабского труда наемным, причем значительный процент этой отрасли оказался в руках английских компаний, получивших концессии на разработку рудников. С укреплением в добывающей промышленности Боливии позиций сперва британского, а в XX веке и американского (США) капитала, страна попала в сферу влияния империалистических государств и стала их разменной монетой. Борьба британского и американского капиталов за влияние в Южной Америке втянула Боливию в ряд империалистических войн: Тихоокеанскую 1879–1883 с Чили, в ходе которой Боливия лишилась доступа к Тихому океану, и Чакскую 1932–1935 — когда Парагваю отошла область Чако-Бореаль, считавшаяся тогда нефтеносной.
Государственные перевороты — не редкость для стран Латинской Америки, но Боливия занимает по этому показателю особое место: со времен провозглашения независимости в 1825 году здесь произошло порядка 190 государственных переворотов и мятежей. Оставив за скобками ранние годы боливийского государства, когда власть пытались делить меж собой латиноамериканские «Наполеоны», обратим внимание на события второй половины XX столетия. Ослабление экономических связей с европейскими странами в ходе Второй мировой войны привело к развитию местной буржуазии. Усиление позиций местной буржуазии вело ее к конфронтации с иностранным капиталом, чем можно объяснить всплеск переворотов в Боливии в послевоенные годы. В этот период сложился архетип: круги военных, за спиной которых стоял американский капитал, и их коллеги, выражавшие интересы местной буржуазии (часто даже прикрываясь социалистическими лозунгами), поочередно друг друга свергали. Лишь в 1982 году было восстановлено гражданское управление.
2. Боливия до 2006 года
2.1. Экономика
В 1953 году началось осуществление аграрной реформы, в ходе которой произошло перераспределение части земель латифундистов в пользу 235 тыс. мелких собственников, что подстегнуло развитие капиталистических отношений в деревне и освоение целинных земель в департаментах Санта-Крус, Бени и Пандо. Однако проведение аграрной реформы не уничтожило пережитки докапиталистических отношений в сельском хозяйстве полностью, а латифундисты лишились лишь 20 % своих земель. Крестьяне, как и сотни лет до этого, продолжали жить за счет натурального хозяйства. Для всего деревенского населения основными орудиями труда оставались мотыга, соха, серп и т. п. — сельхозтехникой располагали лишь крупнейшие латифундисты.
В 1965 году был принят декрет, разрешивший крестьянам продавать или закладывать полученные земли. Он был направлен на укрепление зажиточной прослойки за счет обезземеливания бедных крестьян в пользу буржуазных и военных кругов. Благодаря связи с правительством последние приобретали по заниженным ценам громадные земельные участки для использования их в спекулятивных целях, как то перепродажа по завышенным ценам или использование земли в качестве залога для получения банковских кредитов. В большинстве случаев покупка земли осуществлялась незаконно. Таким образом, из имеющихся в пределах Боливии 28 млн гектаров плодородных земель, 87 % находится в собственности крупных землевладельцев.
Главная отрасль сельского хозяйства — земледелие. На плоскогорной Пуне преобладает натуральное хозяйство. Основной район товарного земледелия — восточные склоны Анд. В стране развито пастбищное животноводство, представленное овцами, козами, ламами и альпаками.
Из экзотики следует отметить выращивание коки. Как сказал классик: «с кокаиновым кустом все невзгоды переносятся гораздо лучше»! В Андах, в условиях жизни на высокогорных просторах с разреженным воздухом жевание листьев коки существенно улучшает состояние человека и утоляет голод. Выращивание коки по понятным причинам вызывает недовольство иностранных партнеров, так что местные власти долгие годы с ним боролись.
После 1952 года произошла национализация крупнейших предприятий добывающей промышленностью и учреждена государственная горнодобывающая компания Corporacion Minera de Bolivia (COMIBOL). Но принятый в 1960 году план реорганизации национализированных рудников с помощью США, ФРГ и Межамериканского банка развития был направлен на сокращение присутствия государства в горнодобывающей промышленности. В 1985 году под предлогом кризиса в оловодобывающей промышленности передача активов в частные руки ускорилась. Параллельно с падением показателей добычи олова росла доля добычи цинка, серебра, свинца и золота. Доля COMIBOL в добыче снизилась с 51 % в 1985 до 5,4 % в 1998 году, но полезные ископаемые остались важнейшей статьей экспорта Боливии (порядка 43–48 % общих экспортных доходов в 1997–98 годах), а к примеру рудники в Потоси, где добывались серебро, цинк и свинец, стали разрабатываться американской компанией Apex Mines Limited. В 1980-е произошел некоторый подъем в золотодобыче, осуществляемой несколькими средними горнодобывающими компаниями. Так, официальный экспорт золота с 1985 по 1988 год увеличился с 1 до 5 тонн, но подавляющая часть драгоценных металлов (около 80 %) вывозилась из страны контрабандой. В последней трети XX столетия помимо американского капитала в Боливию все активней стал проникать капитал из других стран. Например, международной горнодобывающей корпорации Glencore International принадлежали рудники Ресерва, Трес Амигос, Колкечакита и Колкуири.
Боливия занимает 2-е место в Латинской Америке по запасам газа. Нефтегазовая отрасль страны контролировалась более 20 иностранными компаниями из Евросоюза и США, среди которых — французский Total, испанский Repsol, американский Exxon, британский British Gas и бразильский Petrobas.
И на фоне всего этого праздника жизни крупного капитала, единственное природное богатство, которое оставалось трудящимся ‒ это соль солончака Уюни.
Промышленность Боливии слаборазвита: она представлена несколькими электростанциями, цементными, нефтеперерабатывающими и металлургическими заводами. В прочих отраслях действуют преимущественно кустарные предприятия и ремесленное производство. Наибольшее значение из отраслей промышленности имеют текстильная и пищевая промышленность — главным образом сахарная и мукомольная. Центрами обрабатывающей промышленности являются Ла-Пас, Кочабамба, Сукре и Санта-Крус.
Шествие по миру неолиберализма, начавшееся после фашистского военного переворота 1973 года в Чили, не обошло стороной и соседнюю Боливию. После очередного экономического кризиса, для преодоления его последствий правительство обратилось за кредитом во Всемирный банк. По классике, программа «вывода Боливии из экономического кризиса» предполагала усиленную приватизацию всего, что возможно, в том числе и водной инфраструктуры.
Передача водных ресурсов в концессию сопровождалась обеспечением гарантированной прибыли для компании Aguas del Tunari (совместное предприятие с участием американской Bechtel Corporation) путем принятия законов, загоняющих людей в монополию. Наиболее ярким и возмутительным стало введение лицензий на отбор любой воды, в том числе дождевой. Параллельно с этим Aguas del Tunari, пользуясь монопольным положением, подняла цены на воду на 35 %. Для большинства жителей Кочабамбы такие тарифы были неподъемными, ведь теперь за использование воды приходилось отдавать 20 % своего месячного дохода. Сложившаяся ситуация вызвала бурю протестов местных жителей, для подавления которых вводилось чрезвычайное положение, а для обеспечения гарантий законности приватизации воды, правительство Боливии приняло отдельный закон.
Тем временем, президент Всемирного банка Джеймс Вулфенсон, когда его спросили о ситуации с водой в Боливии, в духе приписываемого Марии-Антуанетте изречения, заявил, что бесплатное или субсидируемое предоставление государственной услуги, такой как вода, ведет к злоупотреблению ресурсами: «самая большая проблема с водой — это расточительность из-за отсутствия четкой системы тарифов».
В 1953 году началось осуществление аграрной реформы, в ходе которой произошло перераспределение части земель латифундистов в пользу 235 тыс. мелких собственников, что подстегнуло развитие капиталистических отношений в деревне и освоение целинных земель в департаментах Санта-Крус, Бени и Пандо. Однако проведение аграрной реформы не уничтожило пережитки докапиталистических отношений в сельском хозяйстве полностью, а латифундисты лишились лишь 20 % своих земель. Крестьяне, как и сотни лет до этого, продолжали жить за счет натурального хозяйства. Для всего деревенского населения основными орудиями труда оставались мотыга, соха, серп и т. п. — сельхозтехникой располагали лишь крупнейшие латифундисты.
В 1965 году был принят декрет, разрешивший крестьянам продавать или закладывать полученные земли. Он был направлен на укрепление зажиточной прослойки за счет обезземеливания бедных крестьян в пользу буржуазных и военных кругов. Благодаря связи с правительством последние приобретали по заниженным ценам громадные земельные участки для использования их в спекулятивных целях, как то перепродажа по завышенным ценам или использование земли в качестве залога для получения банковских кредитов. В большинстве случаев покупка земли осуществлялась незаконно. Таким образом, из имеющихся в пределах Боливии 28 млн гектаров плодородных земель, 87 % находится в собственности крупных землевладельцев.
Главная отрасль сельского хозяйства — земледелие. На плоскогорной Пуне преобладает натуральное хозяйство. Основной район товарного земледелия — восточные склоны Анд. В стране развито пастбищное животноводство, представленное овцами, козами, ламами и альпаками.
Из экзотики следует отметить выращивание коки. Как сказал классик: «с кокаиновым кустом все невзгоды переносятся гораздо лучше»! В Андах, в условиях жизни на высокогорных просторах с разреженным воздухом жевание листьев коки существенно улучшает состояние человека и утоляет голод. Выращивание коки по понятным причинам вызывает недовольство иностранных партнеров, так что местные власти долгие годы с ним боролись.
После 1952 года произошла национализация крупнейших предприятий добывающей промышленностью и учреждена государственная горнодобывающая компания Corporacion Minera de Bolivia (COMIBOL). Но принятый в 1960 году план реорганизации национализированных рудников с помощью США, ФРГ и Межамериканского банка развития был направлен на сокращение присутствия государства в горнодобывающей промышленности. В 1985 году под предлогом кризиса в оловодобывающей промышленности передача активов в частные руки ускорилась. Параллельно с падением показателей добычи олова росла доля добычи цинка, серебра, свинца и золота. Доля COMIBOL в добыче снизилась с 51 % в 1985 до 5,4 % в 1998 году, но полезные ископаемые остались важнейшей статьей экспорта Боливии (порядка 43–48 % общих экспортных доходов в 1997–98 годах), а к примеру рудники в Потоси, где добывались серебро, цинк и свинец, стали разрабатываться американской компанией Apex Mines Limited. В 1980-е произошел некоторый подъем в золотодобыче, осуществляемой несколькими средними горнодобывающими компаниями. Так, официальный экспорт золота с 1985 по 1988 год увеличился с 1 до 5 тонн, но подавляющая часть драгоценных металлов (около 80 %) вывозилась из страны контрабандой. В последней трети XX столетия помимо американского капитала в Боливию все активней стал проникать капитал из других стран. Например, международной горнодобывающей корпорации Glencore International принадлежали рудники Ресерва, Трес Амигос, Колкечакита и Колкуири.
Боливия занимает 2-е место в Латинской Америке по запасам газа. Нефтегазовая отрасль страны контролировалась более 20 иностранными компаниями из Евросоюза и США, среди которых — французский Total, испанский Repsol, американский Exxon, британский British Gas и бразильский Petrobas.
И на фоне всего этого праздника жизни крупного капитала, единственное природное богатство, которое оставалось трудящимся ‒ это соль солончака Уюни.
Промышленность Боливии слаборазвита: она представлена несколькими электростанциями, цементными, нефтеперерабатывающими и металлургическими заводами. В прочих отраслях действуют преимущественно кустарные предприятия и ремесленное производство. Наибольшее значение из отраслей промышленности имеют текстильная и пищевая промышленность — главным образом сахарная и мукомольная. Центрами обрабатывающей промышленности являются Ла-Пас, Кочабамба, Сукре и Санта-Крус.
Шествие по миру неолиберализма, начавшееся после фашистского военного переворота 1973 года в Чили, не обошло стороной и соседнюю Боливию. После очередного экономического кризиса, для преодоления его последствий правительство обратилось за кредитом во Всемирный банк. По классике, программа «вывода Боливии из экономического кризиса» предполагала усиленную приватизацию всего, что возможно, в том числе и водной инфраструктуры.
Передача водных ресурсов в концессию сопровождалась обеспечением гарантированной прибыли для компании Aguas del Tunari (совместное предприятие с участием американской Bechtel Corporation) путем принятия законов, загоняющих людей в монополию. Наиболее ярким и возмутительным стало введение лицензий на отбор любой воды, в том числе дождевой. Параллельно с этим Aguas del Tunari, пользуясь монопольным положением, подняла цены на воду на 35 %. Для большинства жителей Кочабамбы такие тарифы были неподъемными, ведь теперь за использование воды приходилось отдавать 20 % своего месячного дохода. Сложившаяся ситуация вызвала бурю протестов местных жителей, для подавления которых вводилось чрезвычайное положение, а для обеспечения гарантий законности приватизации воды, правительство Боливии приняло отдельный закон.
Тем временем, президент Всемирного банка Джеймс Вулфенсон, когда его спросили о ситуации с водой в Боливии, в духе приписываемого Марии-Антуанетте изречения, заявил, что бесплатное или субсидируемое предоставление государственной услуги, такой как вода, ведет к злоупотреблению ресурсами: «самая большая проблема с водой — это расточительность из-за отсутствия четкой системы тарифов».
2.2. Политическая ситуация
Как было сказано выше, Боливия славилась политической нестабильностью. Бесконечные военные перевороты сопровождались волнами репрессий, расстрелами демонстраций, применением армии для подавления забастовок, перераспределением достояний народного хозяйства между представителями боливийской, и иностранной буржуазии. Экспортоориентированная сырьевая экономика Боливии была очень зависима от экономических связей с Соединенными Штатами, и любые санкции были способны полностью ее обрушить, подстегнув очередные военные или народные выступления против властей. Поэтому даже предводители одного из самых радикальных выступлений 1952 года в течении следующих нескольких лет пошли на попятную.
В 1982 году под давлением общественного мнения американское правительство было вынуждено осудить факт существования военной диктатуры в Боливии. Очередной экономический кризис привел к упразднению военной диктатуры и переходу к гражданскому управлению. Гражданские власти сразу же принялись внедрять неолиберальные реформы, что гарантировало сохранение интересов иностранного капитала и обеспечило относительную политическую стабильность на несколько десятилетий.
Демонтаж социалистического строя в СССР, закончившийся распадом государства в 1990–1991 годах стал звездным часом для американского империализма, но вместе с тем и началом заката его славы. Расстановка сил в мире быстро сменилась с противостояния двух экономических систем к положению начала XX столетия: борьба новой системы — социалистического блока — против капиталистической вдруг сменилась борьбой ряда молодых империалистов за передел сферы влияния старого гегемона. Так, в течении 1990-х годов в Боливию все активней стал проникать неамериканский капитал, и к началу нового тысячелетия европейские, японские, китайские и российские капиталисты могли оскаливать зубы на теряющий свои позиции американский империализм.
Как было сказано выше, Боливия славилась политической нестабильностью. Бесконечные военные перевороты сопровождались волнами репрессий, расстрелами демонстраций, применением армии для подавления забастовок, перераспределением достояний народного хозяйства между представителями боливийской, и иностранной буржуазии. Экспортоориентированная сырьевая экономика Боливии была очень зависима от экономических связей с Соединенными Штатами, и любые санкции были способны полностью ее обрушить, подстегнув очередные военные или народные выступления против властей. Поэтому даже предводители одного из самых радикальных выступлений 1952 года в течении следующих нескольких лет пошли на попятную.
В 1982 году под давлением общественного мнения американское правительство было вынуждено осудить факт существования военной диктатуры в Боливии. Очередной экономический кризис привел к упразднению военной диктатуры и переходу к гражданскому управлению. Гражданские власти сразу же принялись внедрять неолиберальные реформы, что гарантировало сохранение интересов иностранного капитала и обеспечило относительную политическую стабильность на несколько десятилетий.
Демонтаж социалистического строя в СССР, закончившийся распадом государства в 1990–1991 годах стал звездным часом для американского империализма, но вместе с тем и началом заката его славы. Расстановка сил в мире быстро сменилась с противостояния двух экономических систем к положению начала XX столетия: борьба новой системы — социалистического блока — против капиталистической вдруг сменилась борьбой ряда молодых империалистов за передел сферы влияния старого гегемона. Так, в течении 1990-х годов в Боливию все активней стал проникать неамериканский капитал, и к началу нового тысячелетия европейские, японские, китайские и российские капиталисты могли оскаливать зубы на теряющий свои позиции американский империализм.
2.3. Социальные контрасты и классовая борьба
Несмотря на демократизацию (в буржуазном понимании) Боливии с 1982 года, новое либеральное правительство зачастую продолжало решать конфликты между рабочими и буржуазией по-прежнему — при помощи военной силы. Разгон армейскими частями забастовок шахтеров и мирных гражданских протестов продолжал оставался нормой, не мешая боливийским властям получать кредиты от США на «развитие демократии». К слову, исполнение требований подобных программ: «инвестиции, направленные на удовлетворение нужд населения, и движение к рыночной экономике» и вызвали упомянутые протесты против приватизации воды в Кочабамбе, силовое подавление которых повлекло за собой многочисленные жертвы (6 человек убито, 175 ранено).
В феврале 2003-го решение правительства увеличить налог на заработную плату на 12,5 % вызвал новый всплеск протестов, в которых участвовали даже полицейские пенсионеры. Даже их — цепных псов капитала, его орудие, подавляющее трудовой народ — не обошла стороной антинародная политика буржуазных властей. В итоге часть полиции поддержала демонстрантов в Ла-Пасе, что привело к перестрелке между войсками и полицией, в ходе которой погибло 18 человек.
В сентябре того же 2003-го новые протесты, названые «Газовой войной», подстегнуло решение правительства президента Гонсало Санчеса де Лосады продавать газ в США через Чили. На волне этих протестов знаковыми фигурами стали лидеры индейских движений Эво Моралес и Фелипе Кишпе (индейское движение Пачакути). Их отличал угол зрения на проблему: Моралес выступал лишь за усиление государственного контроля над газодобывающей промышленностью, а Кишпе — за полную ее национализацию. Как читатель уже понял, стрелять в мирных гражданских людей военные совершенно не гнушаются: было убито около 100 человек. Спустя более десяти лет в США состоялся суд над уже бывшими президентом Боливии Гонсало Санчесом де Лосада и министром обороны в его правительстве, виновными в гибели гражданских лиц (законодательство США позволяет рассматривать некоторые преступления, совершенные зарубежом). Американская Фемида признала обоих виновными и назначила «суровое» наказание: выплатить семьям убитых компенсацию общим размером 10 миллионов долларов.
Второй проблемой боливийского общества являются конфликты на этнической почве. Хотя 2/3 населения страны и составляют представители индейских народов и подавляющее большинство поводов для индейских выступлений не направлены конкретно против индейцев, а скорее являются обычными для капиталистического строя методами усиленной эксплуатации рабочих, нельзя сказать, что расового конфликта в стране нет. Конфликт на этнической почве имеет место в основном на бытовом уровне, а новости в духе «шайка нациков совершила нападение на индейцев» являются обыденным делом.
Как и во многих странах, в Боливии сильны позиции романтического национализма, выраженные в идеализации времен Империи Инков как периода свободы от несправедливостей и угнетения. Поэтому, когда в результате испанской колонизации правящим классом в стране стали феодальные землевладельцы (потомки испанских конкистадоров), этническая принадлежность верхов общества лишь подстегнула позиции индейского национализма. В условиях нескрываемой подчиненности Боливии интересам мировых империалистов немало «левых» примыкало к индейским националистическим организациям, наиболее известным из которых в XX столетии являлось Национальное Революционное Движение (MNR), пришедшее к власти в 1952-м. Оно начало реформы для улучшения жизни рабочих и индейцев, но под давлением США быстро перешло на реакционные позиции. В 1960–1970-х активно действовало движение «катаристов» — борцов за «возвращение индейцам права голоса и автономии». Крупнейшим успехом «катаристов» являлось избрание на пост вице-президента Виктора Уго Карденаса в 1993 году.
В 1990–2000-х Боливия регулярно получала претензии от США по поводу наличия в стране множества нелегальных плантаций коки. Бедное сельское население, которое составляют индейцы, традиционно выращивало это растение для использования в народной медицине. Индейское движение поддержало «Союз Кокальерос», возглавляемый Эво Моралесом и взывающий к защите индейской культуры. В ходе массовых протестов в 2005 году были проведены досрочные выборы, победу на которых впервые одержал представитель коренного индейского народа аймара Эво Моралес.
Несмотря на демократизацию (в буржуазном понимании) Боливии с 1982 года, новое либеральное правительство зачастую продолжало решать конфликты между рабочими и буржуазией по-прежнему — при помощи военной силы. Разгон армейскими частями забастовок шахтеров и мирных гражданских протестов продолжал оставался нормой, не мешая боливийским властям получать кредиты от США на «развитие демократии». К слову, исполнение требований подобных программ: «инвестиции, направленные на удовлетворение нужд населения, и движение к рыночной экономике» и вызвали упомянутые протесты против приватизации воды в Кочабамбе, силовое подавление которых повлекло за собой многочисленные жертвы (6 человек убито, 175 ранено).
В феврале 2003-го решение правительства увеличить налог на заработную плату на 12,5 % вызвал новый всплеск протестов, в которых участвовали даже полицейские пенсионеры. Даже их — цепных псов капитала, его орудие, подавляющее трудовой народ — не обошла стороной антинародная политика буржуазных властей. В итоге часть полиции поддержала демонстрантов в Ла-Пасе, что привело к перестрелке между войсками и полицией, в ходе которой погибло 18 человек.
В сентябре того же 2003-го новые протесты, названые «Газовой войной», подстегнуло решение правительства президента Гонсало Санчеса де Лосады продавать газ в США через Чили. На волне этих протестов знаковыми фигурами стали лидеры индейских движений Эво Моралес и Фелипе Кишпе (индейское движение Пачакути). Их отличал угол зрения на проблему: Моралес выступал лишь за усиление государственного контроля над газодобывающей промышленностью, а Кишпе — за полную ее национализацию. Как читатель уже понял, стрелять в мирных гражданских людей военные совершенно не гнушаются: было убито около 100 человек. Спустя более десяти лет в США состоялся суд над уже бывшими президентом Боливии Гонсало Санчесом де Лосада и министром обороны в его правительстве, виновными в гибели гражданских лиц (законодательство США позволяет рассматривать некоторые преступления, совершенные зарубежом). Американская Фемида признала обоих виновными и назначила «суровое» наказание: выплатить семьям убитых компенсацию общим размером 10 миллионов долларов.
Второй проблемой боливийского общества являются конфликты на этнической почве. Хотя 2/3 населения страны и составляют представители индейских народов и подавляющее большинство поводов для индейских выступлений не направлены конкретно против индейцев, а скорее являются обычными для капиталистического строя методами усиленной эксплуатации рабочих, нельзя сказать, что расового конфликта в стране нет. Конфликт на этнической почве имеет место в основном на бытовом уровне, а новости в духе «шайка нациков совершила нападение на индейцев» являются обыденным делом.
Как и во многих странах, в Боливии сильны позиции романтического национализма, выраженные в идеализации времен Империи Инков как периода свободы от несправедливостей и угнетения. Поэтому, когда в результате испанской колонизации правящим классом в стране стали феодальные землевладельцы (потомки испанских конкистадоров), этническая принадлежность верхов общества лишь подстегнула позиции индейского национализма. В условиях нескрываемой подчиненности Боливии интересам мировых империалистов немало «левых» примыкало к индейским националистическим организациям, наиболее известным из которых в XX столетии являлось Национальное Революционное Движение (MNR), пришедшее к власти в 1952-м. Оно начало реформы для улучшения жизни рабочих и индейцев, но под давлением США быстро перешло на реакционные позиции. В 1960–1970-х активно действовало движение «катаристов» — борцов за «возвращение индейцам права голоса и автономии». Крупнейшим успехом «катаристов» являлось избрание на пост вице-президента Виктора Уго Карденаса в 1993 году.
В 1990–2000-х Боливия регулярно получала претензии от США по поводу наличия в стране множества нелегальных плантаций коки. Бедное сельское население, которое составляют индейцы, традиционно выращивало это растение для использования в народной медицине. Индейское движение поддержало «Союз Кокальерос», возглавляемый Эво Моралесом и взывающий к защите индейской культуры. В ходе массовых протестов в 2005 году были проведены досрочные выборы, победу на которых впервые одержал представитель коренного индейского народа аймара Эво Моралес.
3. Эво Моралес
3.1. Приход к власти и программа «Движения к социализму»
Новое, XXI столетие Республика Боливия встретила в состоянии глубокого экономического кризиса. Материальное положений подавляющей части боливийского общества и ранее нельзя было назвать благополучным, но неолиберальная политика конца XX‒начала XXI века довела людей до ручки. Усиленная приватизация всех сфер хозяйства и обеспечение гарантированной выгоды для иностранного капитала вели ко все большему обнищанию населения и, как следствие, всплеску народных волнений. В таких условиях, после нескольких попыток охладить ситуацию путем смены президентов, правительство было вынужденно назначить на конец 2005 года досрочные выборы.
Следствием кризиса неолиберальной политики в Боливии стало глубокое падение доверия как к традиционным политическим партиям, так и к представительской парламентской системе в целом. Общественное мнение требовало перемен во всех эшелонах власти: президента, парламента, местных властей. Также все громче звучали требования национализации углеводородов, которую поддерживало 77,7 % населения. В таких условиях, в преддверии выборов традиционные партии спешно пытались сменить лица предводителей, а почти все предвыборные программы в обязательном порядке содержали пункт «национализация добывающей промышленности». Лидирующие позиции на выборах занимали три политические силы: «Движение к социализму» (MAS) во главе с Эво Моралесом, «Демократическая и социальная сила» (Podemos) Хорхе Кироги и «Национальное единство» (Unidad Nacional) под предводительством Самуэлья Дориа Медина. Вот как описывала кандидатов латиноамериканская пресса:
«Присутствие Эво Моралеса было ожидаемым. Родившийся в 1959 году в маленькой, бедной крестьянской общине, Моралес эмигрировал в начале 1980-х годов в Чапаре, новый район выращивания коки. Он поднялся на все позиции в профсоюзном движении производителей коки, став ориентиром для народного движения и основой новой политической организации, MAS. В 1997 году был избран депутатом, а в 2002 году занял второе место на президентских выборах. Его партия служила главной оппозиционной силой Санчесу де Лосаде и играла активную роль во время правления Месы, чередуя примирительную и критическую линии. Моралес выбрал в качестве своего напарника Альваро Гарсиа Линера, левого интеллектуала, который начинал в рядах Партизанской армии Тупака Катари (EGTK), а затем получил известность благодаря своим выступлениям в качестве выдающегося политического и социального аналитика на телевидении.
Кандидатура Кироги (1960), происходившего из зажиточной семьи, также не привлекла особого внимания. Получив диплом инженера в Соединенных Штатах, он сделал стремительную карьеру, которая привела его в Министерство финансов, на пост вице-президента вместе с Банцером (1997) и, наконец, на пост президента (2001–2002). Несмотря на то, что в конце своего правления он поселился в Соединенных Штатах и держался в тени, он завершил свой правительственный срок с популярностью, и его фигура пользовалась уважением защитников рыночной экономики. Его вступление в кампанию не было сделано рукой ADN, партии, главой которой он был; он решил защищать цвета «Podemos», альянса гражданских групп. Его сопровождала Мария Рене Дюшен, одна из самых известных ведущих новостей страны.
Дориа Медина (1958) чередовал частную и общественную деятельность. Он сколотил одно из самых значительных состояний в стране как владелец Боливийского цементного общества (Soboce) и в то же время сделал обширную карьеру: он был министром планирования (1991–1993) и напарником Хайме Паса в 1997 году, прежде чем подготовить свой собственный проект — партию Национального единства (UN). Он часто участвовал в основных дебатах, чередуя слова поддержки и слова критики правительства Месы. В качестве своего напарника он выбрал Карлоса Дабдуба, бывшего министра и бывшего парламентария, который стал одним из представителей регионалистского движения в Санта-Крус».
Рассматривать программы либералов-рыночников даже не интересно, да это и не тема данной статьи, поэтому перейдем к вопросу того, каким путем к социализму предлагали двигаться в «Движении к социализму»? MAS представляла себя вестником перемен — из троих основных кандидатов лишь эта партия никогда не стояла у руля государства. В противовес неолиберальной экономической политике, они предлагали национализацию нефтегазовой промышленности, усиление контроля государства над делами иностранных компаний, перераспределение земли в пользу малоимущих индейцев, восстановление и расширение социальной сферы, которая была окончательно разрушена в предыдущие десятилетия. Не менее важным пунктом программы Эво Моралеса была борьба с американским империализмом. И в то же время MAS представляла себя как «партия, которая впервые позволит народным слоям управлять страной, определяемой не столько с точки зрения класса, сколько с точки зрения этнической принадлежности» — сразу видно, «марксистское» заявление! Партия активно апеллировала к традиционной индейской культуре и ядром ее электората было индейское население.
На выборах 18 декабря 2005 года явка составила 3 102 417 человек (84,5 %). MAS набрала 1 544 374 голоса (53,7 %), Podemos — 821 745 (28,5 %), а Unidad Nacional всего 244 090 (7,8 %). Страна разделилась на две равновеликие половины: MAS взяла верх в более заселенной области Анд, а Podemos ‒ на востоке, в департаментах Бени и Санта-Крус. Такое географическое распределение можно объяснить рядом причин.
Во-первых, в течение второй половины XX века левые в Боливии были вынуждены перенести свою деятельность в сельские районы, поэтому на деревне MAS имела большую поддержку, особенно ввиду профсоюзной деятельности Моралеса в районах выращивания коки. В городах главную поддержку MAS получила в бедных районах, жители которых преимущественно перебрались в город из деревни.
Во-вторых, электорат MAS в большинстве своем состоял из рабочего класса, который в свете этнического состава страны и исторических условий, сложившихся в результате испанской колонизации, представлен индейским населением. Население Боливии, как и основная часть промышленности, сосредоточены на западе страны — в области Анд. Местность на востоке (Орьенте) представляет собой джунгли Амазонии — она слабо заселена, и ведущую роль здесь играют в основном крупные фермеры колонисты (местные кулаки). Индейское население этой области, как говорилось в начале статьи, состоит из множества малых народностей, многие из которых практически не соприкасаются с государством.
В-третьих, в городах MAS удалось получить поддержку «рабочей аристократии», так называемого «среднего класса», и многих представителей боливийской мелкой и средней буржуазии. Ведь чего не отнять у MAS, так это умения работать с целевой аудиторией: так, перед беднейшей частью народа Моралес выступал с пламенными революционными речами, в которых обещал потрясти все сложившиеся устои страны, а перед более зажиточными гражданами кандидат на пост вице-президента Гарсиа Линера не менее активно продвигал умеренный имидж MAS.
После победы Эво Моралес выступил с речью о том, что сознание боливийского народа пробудилось, и теперь настало время «для социальных движений, объединений коренных народов — индейцев, рабочих, а также для интеллигенции и передовых бизнесменов». Словом, пришло время всем вместе сплотится для великих свершений: рабочим, крестьянам, буржуям! Где-то мы эту мысль слышали, вот только не у Маркса...
Новое, XXI столетие Республика Боливия встретила в состоянии глубокого экономического кризиса. Материальное положений подавляющей части боливийского общества и ранее нельзя было назвать благополучным, но неолиберальная политика конца XX‒начала XXI века довела людей до ручки. Усиленная приватизация всех сфер хозяйства и обеспечение гарантированной выгоды для иностранного капитала вели ко все большему обнищанию населения и, как следствие, всплеску народных волнений. В таких условиях, после нескольких попыток охладить ситуацию путем смены президентов, правительство было вынужденно назначить на конец 2005 года досрочные выборы.
Следствием кризиса неолиберальной политики в Боливии стало глубокое падение доверия как к традиционным политическим партиям, так и к представительской парламентской системе в целом. Общественное мнение требовало перемен во всех эшелонах власти: президента, парламента, местных властей. Также все громче звучали требования национализации углеводородов, которую поддерживало 77,7 % населения. В таких условиях, в преддверии выборов традиционные партии спешно пытались сменить лица предводителей, а почти все предвыборные программы в обязательном порядке содержали пункт «национализация добывающей промышленности». Лидирующие позиции на выборах занимали три политические силы: «Движение к социализму» (MAS) во главе с Эво Моралесом, «Демократическая и социальная сила» (Podemos) Хорхе Кироги и «Национальное единство» (Unidad Nacional) под предводительством Самуэлья Дориа Медина. Вот как описывала кандидатов латиноамериканская пресса:
«Присутствие Эво Моралеса было ожидаемым. Родившийся в 1959 году в маленькой, бедной крестьянской общине, Моралес эмигрировал в начале 1980-х годов в Чапаре, новый район выращивания коки. Он поднялся на все позиции в профсоюзном движении производителей коки, став ориентиром для народного движения и основой новой политической организации, MAS. В 1997 году был избран депутатом, а в 2002 году занял второе место на президентских выборах. Его партия служила главной оппозиционной силой Санчесу де Лосаде и играла активную роль во время правления Месы, чередуя примирительную и критическую линии. Моралес выбрал в качестве своего напарника Альваро Гарсиа Линера, левого интеллектуала, который начинал в рядах Партизанской армии Тупака Катари (EGTK), а затем получил известность благодаря своим выступлениям в качестве выдающегося политического и социального аналитика на телевидении.
Кандидатура Кироги (1960), происходившего из зажиточной семьи, также не привлекла особого внимания. Получив диплом инженера в Соединенных Штатах, он сделал стремительную карьеру, которая привела его в Министерство финансов, на пост вице-президента вместе с Банцером (1997) и, наконец, на пост президента (2001–2002). Несмотря на то, что в конце своего правления он поселился в Соединенных Штатах и держался в тени, он завершил свой правительственный срок с популярностью, и его фигура пользовалась уважением защитников рыночной экономики. Его вступление в кампанию не было сделано рукой ADN, партии, главой которой он был; он решил защищать цвета «Podemos», альянса гражданских групп. Его сопровождала Мария Рене Дюшен, одна из самых известных ведущих новостей страны.
Дориа Медина (1958) чередовал частную и общественную деятельность. Он сколотил одно из самых значительных состояний в стране как владелец Боливийского цементного общества (Soboce) и в то же время сделал обширную карьеру: он был министром планирования (1991–1993) и напарником Хайме Паса в 1997 году, прежде чем подготовить свой собственный проект — партию Национального единства (UN). Он часто участвовал в основных дебатах, чередуя слова поддержки и слова критики правительства Месы. В качестве своего напарника он выбрал Карлоса Дабдуба, бывшего министра и бывшего парламентария, который стал одним из представителей регионалистского движения в Санта-Крус».
Рассматривать программы либералов-рыночников даже не интересно, да это и не тема данной статьи, поэтому перейдем к вопросу того, каким путем к социализму предлагали двигаться в «Движении к социализму»? MAS представляла себя вестником перемен — из троих основных кандидатов лишь эта партия никогда не стояла у руля государства. В противовес неолиберальной экономической политике, они предлагали национализацию нефтегазовой промышленности, усиление контроля государства над делами иностранных компаний, перераспределение земли в пользу малоимущих индейцев, восстановление и расширение социальной сферы, которая была окончательно разрушена в предыдущие десятилетия. Не менее важным пунктом программы Эво Моралеса была борьба с американским империализмом. И в то же время MAS представляла себя как «партия, которая впервые позволит народным слоям управлять страной, определяемой не столько с точки зрения класса, сколько с точки зрения этнической принадлежности» — сразу видно, «марксистское» заявление! Партия активно апеллировала к традиционной индейской культуре и ядром ее электората было индейское население.
На выборах 18 декабря 2005 года явка составила 3 102 417 человек (84,5 %). MAS набрала 1 544 374 голоса (53,7 %), Podemos — 821 745 (28,5 %), а Unidad Nacional всего 244 090 (7,8 %). Страна разделилась на две равновеликие половины: MAS взяла верх в более заселенной области Анд, а Podemos ‒ на востоке, в департаментах Бени и Санта-Крус. Такое географическое распределение можно объяснить рядом причин.
Во-первых, в течение второй половины XX века левые в Боливии были вынуждены перенести свою деятельность в сельские районы, поэтому на деревне MAS имела большую поддержку, особенно ввиду профсоюзной деятельности Моралеса в районах выращивания коки. В городах главную поддержку MAS получила в бедных районах, жители которых преимущественно перебрались в город из деревни.
Во-вторых, электорат MAS в большинстве своем состоял из рабочего класса, который в свете этнического состава страны и исторических условий, сложившихся в результате испанской колонизации, представлен индейским населением. Население Боливии, как и основная часть промышленности, сосредоточены на западе страны — в области Анд. Местность на востоке (Орьенте) представляет собой джунгли Амазонии — она слабо заселена, и ведущую роль здесь играют в основном крупные фермеры колонисты (местные кулаки). Индейское население этой области, как говорилось в начале статьи, состоит из множества малых народностей, многие из которых практически не соприкасаются с государством.
В-третьих, в городах MAS удалось получить поддержку «рабочей аристократии», так называемого «среднего класса», и многих представителей боливийской мелкой и средней буржуазии. Ведь чего не отнять у MAS, так это умения работать с целевой аудиторией: так, перед беднейшей частью народа Моралес выступал с пламенными революционными речами, в которых обещал потрясти все сложившиеся устои страны, а перед более зажиточными гражданами кандидат на пост вице-президента Гарсиа Линера не менее активно продвигал умеренный имидж MAS.
После победы Эво Моралес выступил с речью о том, что сознание боливийского народа пробудилось, и теперь настало время «для социальных движений, объединений коренных народов — индейцев, рабочих, а также для интеллигенции и передовых бизнесменов». Словом, пришло время всем вместе сплотится для великих свершений: рабочим, крестьянам, буржуям! Где-то мы эту мысль слышали, вот только не у Маркса...
3.2. Идеология «Движения к социализму»
Как ни странно, в идеологическом плане MAS представляет из себя очень пеструю компанию, состоящую из марксистских оппортунистов, буржуазных националистов и «пачамамистов». Их программа «Культурной и демократической революции» включала перераспределение богатств для уменьшения социальных контрастов, возрождение индейской культуры, антиглобализм и противостояние мировому империализму.
Главный идеолог MAS, бывший партизан Альваро Гарсиа Линера выдвинул концепцию «Андского капитализма»:
«Мы пока не видим возможности построения коммунизма... Коммунизм — это дальний горизонт. И этот коммунизм следует строить на основе самоорганизации общества, процессов создания и распределения общественных благ, общинности и самоуправления. Но... это не непосредственная цель, не ближайший горизонт событий, а речь идет о завоевании равенства, перераспределении богатств, расширении прав... Надо добиться расширения автономии рабочего класса, возникновения коммунитарных экономических форм через сети, взаимосвязи и общие проекты. Но без контроля над ними... Будет меняться соотношение капиталистических и некапиталистических форм в экономике, усиление некапиталистических форм со временем приведет к большей коммунитаризации, общинности, и тогда мы сможем говорить о посткапиталистической стадии» (19, стр. 94).
Если «товарищ» Линера рассчитывал поддержкой индивидуальной трудовой деятельности ремесленников и мелких лавочников «изменить соотношение капиталистических и некапиталистических форм в экономике», то добился он прямо противоположного результата — развития мелкой буржуазии, а MAS стала ее главной политической опорой в борьбе с монополиями.
О буржуазных националистах нет смысла долго рассказывать, их «полет мысли» вполне знаком европейцам. Он выражен в апелляции к «свободным от эксплуатации временам Империи Инков», ведь, как известно, «индеец индейца угнетать не может»!
Что же касается «пачамамистов», то это классические представители неэтической философии, которых вопросы взаимоотношения человека и общества не заботят. Они выступают в защиту природы, окружающей среды ‒ Пачамамы (богиня земли у Инков и, вместе с тем, сама природа). Сторонником этой концепции был министр иностранных дел Давид Чокеуанка, предводитель большинства индейских общественных организаций. Свои взгляды он объясняет следующим образом:
«Мы хотим гармоничную жизнь не только для людей, но и для человека и природы, но когда мы говорим об обществе и человеке, то это исключающий других подход, не учитывающий все остальное… Поскольку для нас самым важным является жизнь, для социализма главное — удовлетворение потребностей человека, как материальных, так и духовных. В этом суть социализма, его экономический закон — удовлетворение потребностей человека. При капитализме главное — это получение прибыли, дохода, капитала. Мы не согласны ни с тем, ни с другим. Более того, человек для нас находится на самом последнем месте. На первом же — птицы, бабочки, муравьи, горы, реки, звезды на небе, — все, среди чего человек лишь малая часть мира. Мы ищем гармонию жизни человека в природе» (19, стр. 97).
Поначалу партия придерживалась концепции идеологического плюрализма, но с укреплением своей власти переходила на сторону демократического централизма. При этом партийная верхушка, опираясь на популярность Эво Моралеса, все более отдалялась от низовых организаций и становилась независимой от них, ввиду чего говорить о демократическом централизме язык не поворачивается.
Как ни странно, в идеологическом плане MAS представляет из себя очень пеструю компанию, состоящую из марксистских оппортунистов, буржуазных националистов и «пачамамистов». Их программа «Культурной и демократической революции» включала перераспределение богатств для уменьшения социальных контрастов, возрождение индейской культуры, антиглобализм и противостояние мировому империализму.
Главный идеолог MAS, бывший партизан Альваро Гарсиа Линера выдвинул концепцию «Андского капитализма»:
«Мы пока не видим возможности построения коммунизма... Коммунизм — это дальний горизонт. И этот коммунизм следует строить на основе самоорганизации общества, процессов создания и распределения общественных благ, общинности и самоуправления. Но... это не непосредственная цель, не ближайший горизонт событий, а речь идет о завоевании равенства, перераспределении богатств, расширении прав... Надо добиться расширения автономии рабочего класса, возникновения коммунитарных экономических форм через сети, взаимосвязи и общие проекты. Но без контроля над ними... Будет меняться соотношение капиталистических и некапиталистических форм в экономике, усиление некапиталистических форм со временем приведет к большей коммунитаризации, общинности, и тогда мы сможем говорить о посткапиталистической стадии» (19, стр. 94).
Если «товарищ» Линера рассчитывал поддержкой индивидуальной трудовой деятельности ремесленников и мелких лавочников «изменить соотношение капиталистических и некапиталистических форм в экономике», то добился он прямо противоположного результата — развития мелкой буржуазии, а MAS стала ее главной политической опорой в борьбе с монополиями.
О буржуазных националистах нет смысла долго рассказывать, их «полет мысли» вполне знаком европейцам. Он выражен в апелляции к «свободным от эксплуатации временам Империи Инков», ведь, как известно, «индеец индейца угнетать не может»!
Что же касается «пачамамистов», то это классические представители неэтической философии, которых вопросы взаимоотношения человека и общества не заботят. Они выступают в защиту природы, окружающей среды ‒ Пачамамы (богиня земли у Инков и, вместе с тем, сама природа). Сторонником этой концепции был министр иностранных дел Давид Чокеуанка, предводитель большинства индейских общественных организаций. Свои взгляды он объясняет следующим образом:
«Мы хотим гармоничную жизнь не только для людей, но и для человека и природы, но когда мы говорим об обществе и человеке, то это исключающий других подход, не учитывающий все остальное… Поскольку для нас самым важным является жизнь, для социализма главное — удовлетворение потребностей человека, как материальных, так и духовных. В этом суть социализма, его экономический закон — удовлетворение потребностей человека. При капитализме главное — это получение прибыли, дохода, капитала. Мы не согласны ни с тем, ни с другим. Более того, человек для нас находится на самом последнем месте. На первом же — птицы, бабочки, муравьи, горы, реки, звезды на небе, — все, среди чего человек лишь малая часть мира. Мы ищем гармонию жизни человека в природе» (19, стр. 97).
Поначалу партия придерживалась концепции идеологического плюрализма, но с укреплением своей власти переходила на сторону демократического централизма. При этом партийная верхушка, опираясь на популярность Эво Моралеса, все более отдалялась от низовых организаций и становилась независимой от них, ввиду чего говорить о демократическом централизме язык не поворачивается.
3.3. Реформы в экономике: «Андский капитализм»
С приходом к власти в 2006 году MAS попыталась провести аграрную реформу, в ходе которой в очередной раз предполагалось уничтожить латифундизм путем перераспределения неиспользуемых земель в пользу малоимущих крестьян и коренных народов. Однако реформа вызвала ожесточенное противодействие в восточных департаментах. Латифундисты и местные кулаки формировали вооруженные «отряды самообороны», которые противодействовали проведению реформы, участвовали в погромах, убивали крестьян и батраков. После подавления сепаратистских выступлений в 2008-м, в качестве встречного шага требованию «Гражданской оппозиции» аграрная реформа была остановлена. Тем не менее правительство Моралеса в рамках поддержки мелких производителей несколько улучшило положение бедных крестьянских семей. Государство передало им все земли, которые смогло отвоевать у латифундистов до остановки реформы. Также крестьянам предоставляли сельскохозяйственную технику, удобрения, семена и животных для разведения.
По случаю 1 мая 2006 года Эво Моралес поздравил боливийский народ декретом о национализации нефтегазовой промышленности страны. Под революционными лозунгами с пафосным занятием всех крупных месторождений частями боливийской армии, контроль над месторождениями, нефтеперегонными заводами и бензозаправочными станциями был передан государственному предприятию Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Своих активов лишились упомянутые ранее Total, Repsol, Exxon, British Gas, Petrobas и др., что не могло не вызвать возмущение буржуазных правительств европейских и американских стран.
Однако для нашего читателя, который знает, как проводили национализацию большевики, необходимо сделать пояснение. Если национализация капитала, которую провела Советская власть после революции, имела целью упразднить эксплуатацию человека человеком и передать орудия труда рабоче-крестьянскому государству, то боливийская национализация 2006 года имела целью лишь установить контроль государства над нефтегазовой промышленностью при сохранении капиталистических отношений. Помимо того, что все компании получили компенсации, им было предложено в течении полугода оформить новые лицензии с условием, что они будут работать в совместных предприятиях с государственной YPFB, в которых за государством будет не менее 51 % капитала. Все добытые ресурсы поступали в распоряжение YPFB за 50 % (или за 18 %, если они добыты на двух крупнейших газовых месторождениях) их стоимости, которая в свою очередь реализовывала их на внутреннем и международном рынках. Несмотря на первоначальную тревогу иностранных инвесторов, даже при таких условиях работа в Боливии оставалась для них довольно выгодной.
В 2007-м за нарушения новых правил игры без компенсации был национализирован металлургический завод «Vinto», принадлежавший компании Glencore, связанной с бывшим президентом Гонсало Санчес де Лосада. В 2012 году Glencore лишилась и цинкового рудника Колкуири. А в 2019-м компания подала иск против Боливии в международный суд с надеждой добиться компенсации и распродала все оставшиеся активы в этой стране.
Таким образом можно сказать, что правительство Эво Моралеса так и не изгнало иностранный капитал из добывающей промышленности страны. В нефтегазовом секторе продолжаютработать европейские и бразильские компании, активно заходит российский «Газпром». В горнодобывающей отрасли работают американские «Кер де Ален майнс» и «Эйпекс силвер майнс». Моралес активно привлекал международный капитал в добывающую промышленность Боливии с целью не допустить монополии капитала какой-либо конкретной страны. Можно уверенно сказать, что построенный Эво государственный капитализм позволил добиться огромных доходов в боливийскую казну на фоне роста цен на энергоресурсы, а государству обеспечил возможность при необходимости прижать любого обнаглевшего буржуйчика. Но в отличии от своих предшественников, проводивших национализации в XX веке, он не пытался вытеснить иностранный капитал в пользу боливийского и таким образом не вызвал сильного противодействия империалистических кругов.
Оставив добывающую промышленность на откуп иностранному капиталу, министр экономики Луис Альберто Арсе Катакора сосредоточил свою экономическую политику на стимулировании развития мелкой буржуазии путем перераспределения богатств. Эту экономическую политику вице-президент Альваро Гарсиа Линера назвал «Андским капитализмом». Период 2006–2019 годов охарактеризовался появлением новой индейской буржуазии «чолос» (cholos). Тот факт, что экономическая политика государства направлена на развитие мелких предприятий с помощью многочисленных льгот и программ привел к тому, что с увеличением капитала чолос не расширяют свои предприятия, а создают новые. Приведем слова самого Гарсиа Линера:
«Развитие индейских предприятий подчиняется очень гибкой логике. Она делает ставку на накопление, но никогда не ставит на кон все во имя накопления. Сначала индеец работает сам с опорой на семью, которая является его главным и неподвергаемым риску ресурсом. Если все идет хорошо, нанимаются работники, при этом работает и сам индеец. Если все идет еще лучше, нанимаю еще работников и перестаю работать сам. Если дела идут плохо, возвращаюсь в мир семейной экономики, где можно пережить любые невзгоды. Никогда индеец не порывает с логикой семейного хозяйства... Когда число работников возрастает до 10–15 человек, индейцы останавливаются и не нанимают до 30, 40, 50, а создают еще одно микропредприятие для сына, кума, племянника» (19. стр. 96).
Интеграция чолос в систему госкапитализма принесла им колоссальный успех, видимым свидетельством которого стал бурный рост строительства «чолетов» (cholet) — домов в швейцарском стиле с индейскими орнаментами, символизирующих успех. Общины чолос прекрасно кооперируются для продвижения своих интересов в переговорах с международными компаниями. К примеру, в переговорах с Samsung им (при поддержке государства) удалось добиться распространения его продукции только в независимых магазинах. Даже если у южнокорейской компании есть свой официальный магазин, она не имеет права продавать там свою продукцию. Чолос быстро вытеснили на внутреннем рынке старую креольско-метисную буржуазию с ее насиженных мест, что вызвало рост расистских настроений.
В 2007 году была создана Компания поддержки производства продуктов питания (Emapa). Учреждение закупает сельскохозяйственную продукцию у мелких производителей по ценам выше рыночных, когда в результате спекуляций агрофирм рыночные закупочные цены слишком низкие. Это вынуждает агрофирмы согласовывать цены с Emapa и даже предлагать более высокие. Emapa также способствует распределению продукции: так, в случаях перепроизводства внутренние продовольственные потребности обеспечиваются мелкими товаропроизводителями, а агрофирмы получают возможность экспортировать товары без таможенных пошлин.
В том же году был создан «Банк Производственного развития» (Banco de Desarrollo Productivo) для предоставления ремесленникам и мелким сельхозпроизводителям кредитов с низкими процентными ставками и условиями погашения, адаптированными к сельскохозяйственным циклам.
В 2013 году была декларирована, а в 2018-м запущена программа «Усилия для Боливии» (Esfuerzo por Bolivia), направленная на стимуляцию местного производства. Она предполагает, что, когда рост ВВП превышает 4,5 %, работодатели работников, доходы которых меньше 15 000 боливиано (2000 евро) в месяц, выплачивают им двойную премию или 13-ю зарплату через мобильное приложение. Эти деньги можно потратить только на продукцию, произведенную в Боливии у зарегистрированных в программе предпринимателей. Хотя буржуазия поначалу встретила эту инициативу прохладно, но вскоре повально пошла регистрироваться на участие в программе, ведь ее участники говорят, что никогда не зарабатывали так много.
70 % ремесленников и торговцев заняты в неформальной экономике, на долю которой приходится 60 % ВВП страны. Когда MAS попыталась начать наступление на эту категорию работников, то встретилась с массовым недовольством, поэтому правительство борется с неформальной экономикой очень умерено.
С приходом к власти в 2006 году MAS попыталась провести аграрную реформу, в ходе которой в очередной раз предполагалось уничтожить латифундизм путем перераспределения неиспользуемых земель в пользу малоимущих крестьян и коренных народов. Однако реформа вызвала ожесточенное противодействие в восточных департаментах. Латифундисты и местные кулаки формировали вооруженные «отряды самообороны», которые противодействовали проведению реформы, участвовали в погромах, убивали крестьян и батраков. После подавления сепаратистских выступлений в 2008-м, в качестве встречного шага требованию «Гражданской оппозиции» аграрная реформа была остановлена. Тем не менее правительство Моралеса в рамках поддержки мелких производителей несколько улучшило положение бедных крестьянских семей. Государство передало им все земли, которые смогло отвоевать у латифундистов до остановки реформы. Также крестьянам предоставляли сельскохозяйственную технику, удобрения, семена и животных для разведения.
По случаю 1 мая 2006 года Эво Моралес поздравил боливийский народ декретом о национализации нефтегазовой промышленности страны. Под революционными лозунгами с пафосным занятием всех крупных месторождений частями боливийской армии, контроль над месторождениями, нефтеперегонными заводами и бензозаправочными станциями был передан государственному предприятию Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Своих активов лишились упомянутые ранее Total, Repsol, Exxon, British Gas, Petrobas и др., что не могло не вызвать возмущение буржуазных правительств европейских и американских стран.
Однако для нашего читателя, который знает, как проводили национализацию большевики, необходимо сделать пояснение. Если национализация капитала, которую провела Советская власть после революции, имела целью упразднить эксплуатацию человека человеком и передать орудия труда рабоче-крестьянскому государству, то боливийская национализация 2006 года имела целью лишь установить контроль государства над нефтегазовой промышленностью при сохранении капиталистических отношений. Помимо того, что все компании получили компенсации, им было предложено в течении полугода оформить новые лицензии с условием, что они будут работать в совместных предприятиях с государственной YPFB, в которых за государством будет не менее 51 % капитала. Все добытые ресурсы поступали в распоряжение YPFB за 50 % (или за 18 %, если они добыты на двух крупнейших газовых месторождениях) их стоимости, которая в свою очередь реализовывала их на внутреннем и международном рынках. Несмотря на первоначальную тревогу иностранных инвесторов, даже при таких условиях работа в Боливии оставалась для них довольно выгодной.
В 2007-м за нарушения новых правил игры без компенсации был национализирован металлургический завод «Vinto», принадлежавший компании Glencore, связанной с бывшим президентом Гонсало Санчес де Лосада. В 2012 году Glencore лишилась и цинкового рудника Колкуири. А в 2019-м компания подала иск против Боливии в международный суд с надеждой добиться компенсации и распродала все оставшиеся активы в этой стране.
Таким образом можно сказать, что правительство Эво Моралеса так и не изгнало иностранный капитал из добывающей промышленности страны. В нефтегазовом секторе продолжаютработать европейские и бразильские компании, активно заходит российский «Газпром». В горнодобывающей отрасли работают американские «Кер де Ален майнс» и «Эйпекс силвер майнс». Моралес активно привлекал международный капитал в добывающую промышленность Боливии с целью не допустить монополии капитала какой-либо конкретной страны. Можно уверенно сказать, что построенный Эво государственный капитализм позволил добиться огромных доходов в боливийскую казну на фоне роста цен на энергоресурсы, а государству обеспечил возможность при необходимости прижать любого обнаглевшего буржуйчика. Но в отличии от своих предшественников, проводивших национализации в XX веке, он не пытался вытеснить иностранный капитал в пользу боливийского и таким образом не вызвал сильного противодействия империалистических кругов.
Оставив добывающую промышленность на откуп иностранному капиталу, министр экономики Луис Альберто Арсе Катакора сосредоточил свою экономическую политику на стимулировании развития мелкой буржуазии путем перераспределения богатств. Эту экономическую политику вице-президент Альваро Гарсиа Линера назвал «Андским капитализмом». Период 2006–2019 годов охарактеризовался появлением новой индейской буржуазии «чолос» (cholos). Тот факт, что экономическая политика государства направлена на развитие мелких предприятий с помощью многочисленных льгот и программ привел к тому, что с увеличением капитала чолос не расширяют свои предприятия, а создают новые. Приведем слова самого Гарсиа Линера:
«Развитие индейских предприятий подчиняется очень гибкой логике. Она делает ставку на накопление, но никогда не ставит на кон все во имя накопления. Сначала индеец работает сам с опорой на семью, которая является его главным и неподвергаемым риску ресурсом. Если все идет хорошо, нанимаются работники, при этом работает и сам индеец. Если все идет еще лучше, нанимаю еще работников и перестаю работать сам. Если дела идут плохо, возвращаюсь в мир семейной экономики, где можно пережить любые невзгоды. Никогда индеец не порывает с логикой семейного хозяйства... Когда число работников возрастает до 10–15 человек, индейцы останавливаются и не нанимают до 30, 40, 50, а создают еще одно микропредприятие для сына, кума, племянника» (19. стр. 96).
Интеграция чолос в систему госкапитализма принесла им колоссальный успех, видимым свидетельством которого стал бурный рост строительства «чолетов» (cholet) — домов в швейцарском стиле с индейскими орнаментами, символизирующих успех. Общины чолос прекрасно кооперируются для продвижения своих интересов в переговорах с международными компаниями. К примеру, в переговорах с Samsung им (при поддержке государства) удалось добиться распространения его продукции только в независимых магазинах. Даже если у южнокорейской компании есть свой официальный магазин, она не имеет права продавать там свою продукцию. Чолос быстро вытеснили на внутреннем рынке старую креольско-метисную буржуазию с ее насиженных мест, что вызвало рост расистских настроений.
В 2007 году была создана Компания поддержки производства продуктов питания (Emapa). Учреждение закупает сельскохозяйственную продукцию у мелких производителей по ценам выше рыночных, когда в результате спекуляций агрофирм рыночные закупочные цены слишком низкие. Это вынуждает агрофирмы согласовывать цены с Emapa и даже предлагать более высокие. Emapa также способствует распределению продукции: так, в случаях перепроизводства внутренние продовольственные потребности обеспечиваются мелкими товаропроизводителями, а агрофирмы получают возможность экспортировать товары без таможенных пошлин.
В том же году был создан «Банк Производственного развития» (Banco de Desarrollo Productivo) для предоставления ремесленникам и мелким сельхозпроизводителям кредитов с низкими процентными ставками и условиями погашения, адаптированными к сельскохозяйственным циклам.
В 2013 году была декларирована, а в 2018-м запущена программа «Усилия для Боливии» (Esfuerzo por Bolivia), направленная на стимуляцию местного производства. Она предполагает, что, когда рост ВВП превышает 4,5 %, работодатели работников, доходы которых меньше 15 000 боливиано (2000 евро) в месяц, выплачивают им двойную премию или 13-ю зарплату через мобильное приложение. Эти деньги можно потратить только на продукцию, произведенную в Боливии у зарегистрированных в программе предпринимателей. Хотя буржуазия поначалу встретила эту инициативу прохладно, но вскоре повально пошла регистрироваться на участие в программе, ведь ее участники говорят, что никогда не зарабатывали так много.
70 % ремесленников и торговцев заняты в неформальной экономике, на долю которой приходится 60 % ВВП страны. Когда MAS попыталась начать наступление на эту категорию работников, то встретилась с массовым недовольством, поэтому правительство борется с неформальной экономикой очень умерено.
3.4. Внутренняя политика
Одним из первых предвыборных обещаний, выполненных Эво Моралесом, стало сокращение расходов на госаппарат путем уменьшения зарплат президента (на 57 %) и чиновников. В честь Первомая президент объявил об исполнении второго обещания — национализации углеводородов. В том же мае 2006-го началась аграрная реформа, вызвавшая серьезное противодействие крупных землевладельцев в регионе Орьенте (департаменты Санта-Крус, Бени и Пандо). Для защиты своих земель они сформировали вооруженные «отряды самообороны» (в Латинской Америке под этим термином понимаются шайки головорезов, используемые для подавления крестьян).
В 2007 году началась работа над новой конституцией Боливии, что привело к обострению конфронтации MAS со старыми элитами. Произошел конфликт по поводу столицы — Сукре или Ла-Пас? Но пик конфронтации пришелся на 2008 год. В преддверии принятия новой конституции латифундистские департаменты Санта-Крус, Бени, Пандо и Тариха взяли курс на автономию, которую на референдумах поддержало более 80 % избирателей. В этих же землях находится 95 % боливийских запасов нефти и газа. Среди требований сепаратистов были самостоятельность от центрального правительства в вопросах распоряжения природными ресурсами, создание собственной законодательной и судебной власти, правоохранительных органов и право заключать международные соглашения с другими странами. Для разрешения кризиса Моралес провел референдум о доверии к президенту и губернаторам, по результатам которого он набрал 63 % голосов. Однако и губернаторы мятежных департаментов сохранили свои места. На 7 декабря 2008 года был назначен новый референдум о конституции.
После первого референдума ситуация в стране резко накалилась. «Гражданская оппозиция» взяла курс на насильственное свержение Эво Моралеса, а ее сторонники стали захватывать государственные учреждения и центры коммуникаций на востоке страны. Поддержку сепаратистам оказывал американский посол Филип Голдберг, ранее представлявший интересы США в Югославии. С его помощью «отряды самообороны» пополнились множеством «милейших людей», отметившихся в Югославии, а расистские лозунги и свастики на машинах некоторых из них, видать, должны были подчеркнуть «преданность американской дипломатии борьбе за демократию и права человека»! Почти половина территории страны контролировалась восставшими против центральной власти «гражданскими комитетами» — финансируемыми из бюджета мятежных департаментов кулацкими бандами. 12 сентября Эво Моралес ввел осадное положение в Пандо и дал войскам приказ восстановить в провинции конституционный порядок, но военным было запрещено использовать огнестрельное оружие, кроме самых крайних случаев самозащиты. Главнокомандующий вооруженными силами Боливии генерал Луис Триго не спешил исполнять президентский указ. 14 сентября в столице Чили Сантьяго встретились президенты большинства стран Южноамериканского Союза Наций (UNASUR), которые договорились не оказывать никакой поддержки мятежникам и не признавать их в случае захвата ими власти. Латиноамериканские страны вынудили сепаратистов пойти на попятную, и на следующий день главу департамента Пандо Леопольдо Фернандеса с его ближайшими соратниками арестовали за организацию многочисленных убийств крестьян близ реки Тауаману.
MAS и «Гражданская оппозиция» сошлись на том, что конституция будет принята в обмен на остановку аграрной реформы. После референдума, при поддержке 62 % избирателей, 7 февраля 2009 года вступила в силу новая конституция Боливии. Основными нововведениями стали:
Принятие конституции также предполагало проведение всеобщих выборов 6 декабря 2009 года, на которых Эво Моралес получил 64 % голосов, а MAS — 2/3 мест в Конгрессе. Оппозиция востока страны была дискредитирована и разгромлена, а MAS начала проводить политику умиротворения буржуазии.
Контроль государства над природными ресурсами в сочетании с ростом цен на углеводороды позволил достичь значительного роста боливийской экономики, а страна поборола дефицит бюджета. В период 2006–2019 годов ВВП вырос в 3 раза, а экспорт — в 5 раз. Валютные резервы достигли 50 % ВВП, а бюджет вырос с 6 до 20 млрд долларов. Успехи экономики в сочетании с концепцией перераспределения богатств позволили существенно повысить доходы населения, а рост благосостояния населения и проистекающее из него укрепление потребительских мещанских ценностей обеспечили Эво Моралесу самое долгое правление как минимум с 1982 года. При этом Боливия продолжала занимать «почетное» 106 место в списке стран по уровню коррупции, как и до прихода Моралеса.
Как и полагается националистам, под лозунгами о «борьбе за права и интересы коренных народов» правительство Моралеса провело работу по улучшению положения боливийской буржуазии «чола» (термин, означающий новую буржуазию индейского происхождения). При поддержке MAS «чола» активно интегрировались в боливийскую систему государственного капитализма, вытесняя метисную и креольскую буржуазию, что активно подогревало расовый конфликт в городах. Способствовал и фон государственной пропаганды, поднявшей на знамена лозунг борьбы с наследием испанской колонизации. В стране активно навязывалась индейская культура, причем зачастую это происходило на фоне какого-либо недовольства властью и преподносилось как «очередная победа MAS в борьбе с империализмом». К примеру, в разгар недовольства населения идеей Моралеса идти на четвертый президентский строк, президент предложил «сбросить очередные оковы колониального прошлого» — заменить григорианский календарь на инкский. А после своего третьего переизбрания в 2014 году «Эво из народа» озаботился вопросом строительства нового 29-этажногопрезидентского дворца в индейском стиле стоимостью в 36 млн долларов взамен старого здания времен испанской колонизации.
Еще одним исполненным предвыборным обещанием стала отмена закона, запрещавшего выращивание коки. Как сказал Эво Моралес:
«Этот листочек сформировал меня как личность, как политика, а теперь вот и как президента. Поэтому я не могу предать его, согласившись на требования американцев об уничтожении посевов, не могу предать миллионы наших крестьян, для которых лист коки священен и не имеет ничего общего с наркотиками».
Параллельно велась борьба с наркоторговлей, сопровождавшаяся громкими новостными сводками о задержаниях партий наркотиков и принятием закона, позволявшего сбивать самолеты, используемые для перевозки наркотиков.
Централизация власти в партии привела к тому, что многие вчерашние соратники переходили в оппозицию к Моралесу. Вице-президент Гарсиа Линера в 2013-м заявлял, что избранные от MAS, но критикующие власть политики должны быть исключены из партии. На словах Эво Моралес отстаивал принцип плюрализма, но на деле одобрял централизацию. Многие представители интеллектуального ядра партии перешли в оппозицию, обвинив Моралеса в повторении ошибок правительства, пришедшего к власти в 1952 году. В совокупности с потерей связи с низовыми движениями, это подточило власть MAS.
Первым серьезным ударом в триумфальной карьере Эво Моралеса стал референдум 2016 года о внесении поправок в конституцию, позволяющих президенту идти на третий строк подряд (первый строк Эво Моралеса не учитывался из-за принятия новой конституции). 51 % избирателей не захотели видеть Моралеса на президентской должности в четвертый раз. В преддверии референдума всплыла информация о женщине, которая нажилась на связи с президентом-холостяком (подтверждений или опровержений этого обвинения найти не удалось), а сторонники MAS напали на мэрию в оппозиционном городе Эль-Альто, в результате чего погибли 6 сотрудников администрации. Следующие выборы 2019 года обернулись для Моралеса потерей власти.
Одним из первых предвыборных обещаний, выполненных Эво Моралесом, стало сокращение расходов на госаппарат путем уменьшения зарплат президента (на 57 %) и чиновников. В честь Первомая президент объявил об исполнении второго обещания — национализации углеводородов. В том же мае 2006-го началась аграрная реформа, вызвавшая серьезное противодействие крупных землевладельцев в регионе Орьенте (департаменты Санта-Крус, Бени и Пандо). Для защиты своих земель они сформировали вооруженные «отряды самообороны» (в Латинской Америке под этим термином понимаются шайки головорезов, используемые для подавления крестьян).
В 2007 году началась работа над новой конституцией Боливии, что привело к обострению конфронтации MAS со старыми элитами. Произошел конфликт по поводу столицы — Сукре или Ла-Пас? Но пик конфронтации пришелся на 2008 год. В преддверии принятия новой конституции латифундистские департаменты Санта-Крус, Бени, Пандо и Тариха взяли курс на автономию, которую на референдумах поддержало более 80 % избирателей. В этих же землях находится 95 % боливийских запасов нефти и газа. Среди требований сепаратистов были самостоятельность от центрального правительства в вопросах распоряжения природными ресурсами, создание собственной законодательной и судебной власти, правоохранительных органов и право заключать международные соглашения с другими странами. Для разрешения кризиса Моралес провел референдум о доверии к президенту и губернаторам, по результатам которого он набрал 63 % голосов. Однако и губернаторы мятежных департаментов сохранили свои места. На 7 декабря 2008 года был назначен новый референдум о конституции.
После первого референдума ситуация в стране резко накалилась. «Гражданская оппозиция» взяла курс на насильственное свержение Эво Моралеса, а ее сторонники стали захватывать государственные учреждения и центры коммуникаций на востоке страны. Поддержку сепаратистам оказывал американский посол Филип Голдберг, ранее представлявший интересы США в Югославии. С его помощью «отряды самообороны» пополнились множеством «милейших людей», отметившихся в Югославии, а расистские лозунги и свастики на машинах некоторых из них, видать, должны были подчеркнуть «преданность американской дипломатии борьбе за демократию и права человека»! Почти половина территории страны контролировалась восставшими против центральной власти «гражданскими комитетами» — финансируемыми из бюджета мятежных департаментов кулацкими бандами. 12 сентября Эво Моралес ввел осадное положение в Пандо и дал войскам приказ восстановить в провинции конституционный порядок, но военным было запрещено использовать огнестрельное оружие, кроме самых крайних случаев самозащиты. Главнокомандующий вооруженными силами Боливии генерал Луис Триго не спешил исполнять президентский указ. 14 сентября в столице Чили Сантьяго встретились президенты большинства стран Южноамериканского Союза Наций (UNASUR), которые договорились не оказывать никакой поддержки мятежникам и не признавать их в случае захвата ими власти. Латиноамериканские страны вынудили сепаратистов пойти на попятную, и на следующий день главу департамента Пандо Леопольдо Фернандеса с его ближайшими соратниками арестовали за организацию многочисленных убийств крестьян близ реки Тауаману.
MAS и «Гражданская оппозиция» сошлись на том, что конституция будет принята в обмен на остановку аграрной реформы. После референдума, при поддержке 62 % избирателей, 7 февраля 2009 года вступила в силу новая конституция Боливии. Основными нововведениями стали:
- изменения в административно-территориальном подчинении, которые из-за множества поправок в соответствии с требованиями оппозиции приобрели взаимопротиворечащие положения, сочетающие унитарную президентскую республику и нецентрализованное, почти анархическое образование;
- провозглашение «Многонационального государства Боливии», предполагавшее признание социально-экономических, культурных и общинных институтов, а также права автономии для 36 индейских народностей страны (только 5 % муниципалитетов стали управляться таким образом).
Принятие конституции также предполагало проведение всеобщих выборов 6 декабря 2009 года, на которых Эво Моралес получил 64 % голосов, а MAS — 2/3 мест в Конгрессе. Оппозиция востока страны была дискредитирована и разгромлена, а MAS начала проводить политику умиротворения буржуазии.
Контроль государства над природными ресурсами в сочетании с ростом цен на углеводороды позволил достичь значительного роста боливийской экономики, а страна поборола дефицит бюджета. В период 2006–2019 годов ВВП вырос в 3 раза, а экспорт — в 5 раз. Валютные резервы достигли 50 % ВВП, а бюджет вырос с 6 до 20 млрд долларов. Успехи экономики в сочетании с концепцией перераспределения богатств позволили существенно повысить доходы населения, а рост благосостояния населения и проистекающее из него укрепление потребительских мещанских ценностей обеспечили Эво Моралесу самое долгое правление как минимум с 1982 года. При этом Боливия продолжала занимать «почетное» 106 место в списке стран по уровню коррупции, как и до прихода Моралеса.
Как и полагается националистам, под лозунгами о «борьбе за права и интересы коренных народов» правительство Моралеса провело работу по улучшению положения боливийской буржуазии «чола» (термин, означающий новую буржуазию индейского происхождения). При поддержке MAS «чола» активно интегрировались в боливийскую систему государственного капитализма, вытесняя метисную и креольскую буржуазию, что активно подогревало расовый конфликт в городах. Способствовал и фон государственной пропаганды, поднявшей на знамена лозунг борьбы с наследием испанской колонизации. В стране активно навязывалась индейская культура, причем зачастую это происходило на фоне какого-либо недовольства властью и преподносилось как «очередная победа MAS в борьбе с империализмом». К примеру, в разгар недовольства населения идеей Моралеса идти на четвертый президентский строк, президент предложил «сбросить очередные оковы колониального прошлого» — заменить григорианский календарь на инкский. А после своего третьего переизбрания в 2014 году «Эво из народа» озаботился вопросом строительства нового 29-этажногопрезидентского дворца в индейском стиле стоимостью в 36 млн долларов взамен старого здания времен испанской колонизации.
Еще одним исполненным предвыборным обещанием стала отмена закона, запрещавшего выращивание коки. Как сказал Эво Моралес:
«Этот листочек сформировал меня как личность, как политика, а теперь вот и как президента. Поэтому я не могу предать его, согласившись на требования американцев об уничтожении посевов, не могу предать миллионы наших крестьян, для которых лист коки священен и не имеет ничего общего с наркотиками».
Параллельно велась борьба с наркоторговлей, сопровождавшаяся громкими новостными сводками о задержаниях партий наркотиков и принятием закона, позволявшего сбивать самолеты, используемые для перевозки наркотиков.
Централизация власти в партии привела к тому, что многие вчерашние соратники переходили в оппозицию к Моралесу. Вице-президент Гарсиа Линера в 2013-м заявлял, что избранные от MAS, но критикующие власть политики должны быть исключены из партии. На словах Эво Моралес отстаивал принцип плюрализма, но на деле одобрял централизацию. Многие представители интеллектуального ядра партии перешли в оппозицию, обвинив Моралеса в повторении ошибок правительства, пришедшего к власти в 1952 году. В совокупности с потерей связи с низовыми движениями, это подточило власть MAS.
Первым серьезным ударом в триумфальной карьере Эво Моралеса стал референдум 2016 года о внесении поправок в конституцию, позволяющих президенту идти на третий строк подряд (первый строк Эво Моралеса не учитывался из-за принятия новой конституции). 51 % избирателей не захотели видеть Моралеса на президентской должности в четвертый раз. В преддверии референдума всплыла информация о женщине, которая нажилась на связи с президентом-холостяком (подтверждений или опровержений этого обвинения найти не удалось), а сторонники MAS напали на мэрию в оппозиционном городе Эль-Альто, в результате чего погибли 6 сотрудников администрации. Следующие выборы 2019 года обернулись для Моралеса потерей власти.
3.5. Внешняя политика
Еще до своей победы на выборах MAS имели сложные отношения с американским правительством, однако времена были уже не те... Проникновение в Боливию международного капитала сильно ударило по позициям США в стране. Если в 1970–1980-х годах американский капитал безраздельно властвовал в Боливии, и любые санкции со стороны США могли создать для боливийских властей реальную перспективу переворота, то в 1990–2000-х в регионе появилась масса новых игроков. Сложившаяся ситуация впервые за 100 лет позволила стране приобрести некоторую субъектность на международной арене.
После избрания Эво Моралеса Боливия сблизилась с такими же «левыми» правительствами Бразилии Луиса Игнасиу Лула да Силва и Аргентины Кристины Фернандес де Киршнер, но главными союзниками стали Куба Фиделя Кастро и Венесуэла Уго Чавеса. В 2006 году страна вступила в политический и экономический союз Боливарианский альянс для Америк (ALBA), созданный Кубой и Венесуэлой как альтернатива продвигаемой США Межамериканской зоне свободной торговли, и потому часто называемый «Боливарианской альтернативой». Благодаря братской помощи Кубы, медицина которой является одной из лучших в мире, Боливии удалось достичь больших успехов в этом направлении. Во время правления Моралеса в стране была развернута миссия кубинских врачей, а также налажен экспорт кубинских лекарственных препаратов.
Боливия сотрудничала с Венесуэлой в нефтяной, технической и продовольственной сферах. Венесуэльские специалисты-нефтяники участвовали в развитии нефтяной промышленности Боливии, а также правительство Уго Чавеса безвозмездно передавало Боливии военную технику (преимущественно авиацию), 320 тракторов венесуэльского производства и 170 машин скорой помощи. В 2008 году Венесуэла безвозмездно передала 2 600 компьютеров для боливийской программы развития образовательных учреждений в сельской местности. В свою очередь Боливия всегда откликалась на просьбы Венесуэлы о продовольственной помощи. Находясь в хорошем экономическом положении, Боливия оказывала помощь венесуэльской экономике в 2016 году. Что касается торговых связей, то экспорт боливийских товаров в Венесуэлу стабильно рос, достигнув пика в 2010 году, когда экспорт вырос примерно на 70 % по сравнению с 2006-м. Но с 2012 года он резко сократился вдвое, а в 2017-м сократился более чем в 300 раз. Венесуэльский экспорт же в Боливию резко возрос в период 2008–2012 годов с пиком в 2010-м, когда экспорт вырос примерно в 10 раз в сравнении с 2006 годом.
За время правления Эво Моралеса не раз поднимался вопрос о выходе к океану, потерянному Боливией по результатам Тихоокеанской войны конца XIX столетия. В 2006 году стороны договорились вести переговоры по этому вопросу, которые ожидаемо ни к чему не привели. В 2013 году Боливия подала иск в суд ООН с требованием обязать Чили вести переговоры, который был отвергнут в 2018-м. Но по политическим причинам правительство Моралеса не могло отказаться от морского требования, и Министерство иностранных дел Боливии не перестает напоминать об этом.
В 2016 году, уже по инициативе Чили, страны встретились в суде ООН по вопросу юрисдикции над рекой Силала, которая начинается в Боливии и выходит в океан на территории Чили. В 2022-м суд признал реку международной, и позволил использовать ее и Чили, и Боливии.
Сказать, что Соединенные Штаты были не в восторге от новоизбранного боливийского президента — это ничего не сказать. Вскоре после выборов 2005-го США начали экономическое давление на Боливию. И надо бы вспомнить, что это были за времена: помимо ставших уже обыденностью «визитов» американских войск в «страны богатые нефтью и с дефицитом демократии», у президента Джорджа Буша младшего появилась новая фишка — все неугодные верхушке американского капитала вдруг сразу оказывались террористами или их спонсорами. Не прошло и года, как имя Моралеса пополнило этот список наряду с Фиделем Кастро и Уго Чавесом. В то же время Буш предоставил политическое убежище бывшему президенту Боливии Гонсало Санчес де Лосаде, ответственному за гибель десятков протестующих в 2003 году. Что тут сказать? Новоизбранный председатель профсоюза производителей коки — террорист, а отдававший военным приказ расстреливать народные протесты Санчес де Лосада — защитник свободы, демократии и прав человека. Как говорится, смотрите не перепутайте!
В 2008 году Боливия и США разорвали дипломатические отношения из-за предоставления американским посольством помощи сепаратистскому движению на востоке страны. Помимо посла Филипа Голдберга из страны спровадили ряд действовавших там американских правительственных организаций, обвиненных в шпионаже и раскачиванию положения в стране. Тогда совместное политическое выступление латиноамериканских стран сорвало планы американского империализма.
Совместно с другими странами региона, Боливия выступала против создания американских военных баз в Колумбии. Эво Моралес обвинял США в организации госпереворота в Гондурасе в 2009 году и осуждал войну 2011-го в Ливии. Боливия налаживала связи с противниками США не только в регионе, но и в других частях света. Так, в 2008 году в Ла-Пасе открылось посольство Ирана, а с 2011-го страна начала сближаться с Китаем. Возобновление дипломатических отношений с США произошло в 2011 году, с приходом Обамы.
В 2013 году произошел скандал из-за попытки европейских властей обыскать самолет Моралеса. Тогда власти Франции, Испании, Португалии и Италии закрыли свое воздушное пространство для самолета боливийского президента, летевшего из Москвы на родину. Свое решение они объяснили опасениями, что на борту дипломатического рейса мог находиться беглый сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден, передавший СМИ секретную информацию о программе слежки американских спецслужб за гражданами многих стран мира. После совершения вынужденной посадки самолета в Вене, австрийские власти попыталась обыскать дипломатический рейс в нарушение норм международного права. Эта ситуация вызвала новую волну напряжения в отношениях Боливии и США, а также глубокое возмущение в Латинской Америке.
Способность правительства Моралеса играть на противостоянии американского империализма с новыми империалистами стала еще одним фактором, позволившим удерживать власть почти полтора десятилетия. Для обеспечения внешнеполитической безопасности в условиях конфронтации с США Эво Моралес активно работал над привлечением в Боливию российского и китайского капитала. В частности, в нефтегазовый сектор страны стал активно проникать «Газпром», а «Росатом» был привлечен к созданию Боливийского центра ядерных исследований и технологий. На голосовании в ООН о непризнании референдума в Крыму в 2014 году Боливия голосовала против.
Эво Моралес разорвал дипломатические отношения и международные договоры с Израилем в 2009 году из-за политики апартеида, осуществляемой Израилем в отношении палестинцев. Он резко критиковал военную операцию Израиля в Секторе Газа в 2014 году, в ходе которой погибло несколько тысяч палестинцев, 70 % из которых были гражданскими.
Еще до своей победы на выборах MAS имели сложные отношения с американским правительством, однако времена были уже не те... Проникновение в Боливию международного капитала сильно ударило по позициям США в стране. Если в 1970–1980-х годах американский капитал безраздельно властвовал в Боливии, и любые санкции со стороны США могли создать для боливийских властей реальную перспективу переворота, то в 1990–2000-х в регионе появилась масса новых игроков. Сложившаяся ситуация впервые за 100 лет позволила стране приобрести некоторую субъектность на международной арене.
После избрания Эво Моралеса Боливия сблизилась с такими же «левыми» правительствами Бразилии Луиса Игнасиу Лула да Силва и Аргентины Кристины Фернандес де Киршнер, но главными союзниками стали Куба Фиделя Кастро и Венесуэла Уго Чавеса. В 2006 году страна вступила в политический и экономический союз Боливарианский альянс для Америк (ALBA), созданный Кубой и Венесуэлой как альтернатива продвигаемой США Межамериканской зоне свободной торговли, и потому часто называемый «Боливарианской альтернативой». Благодаря братской помощи Кубы, медицина которой является одной из лучших в мире, Боливии удалось достичь больших успехов в этом направлении. Во время правления Моралеса в стране была развернута миссия кубинских врачей, а также налажен экспорт кубинских лекарственных препаратов.
Боливия сотрудничала с Венесуэлой в нефтяной, технической и продовольственной сферах. Венесуэльские специалисты-нефтяники участвовали в развитии нефтяной промышленности Боливии, а также правительство Уго Чавеса безвозмездно передавало Боливии военную технику (преимущественно авиацию), 320 тракторов венесуэльского производства и 170 машин скорой помощи. В 2008 году Венесуэла безвозмездно передала 2 600 компьютеров для боливийской программы развития образовательных учреждений в сельской местности. В свою очередь Боливия всегда откликалась на просьбы Венесуэлы о продовольственной помощи. Находясь в хорошем экономическом положении, Боливия оказывала помощь венесуэльской экономике в 2016 году. Что касается торговых связей, то экспорт боливийских товаров в Венесуэлу стабильно рос, достигнув пика в 2010 году, когда экспорт вырос примерно на 70 % по сравнению с 2006-м. Но с 2012 года он резко сократился вдвое, а в 2017-м сократился более чем в 300 раз. Венесуэльский экспорт же в Боливию резко возрос в период 2008–2012 годов с пиком в 2010-м, когда экспорт вырос примерно в 10 раз в сравнении с 2006 годом.
За время правления Эво Моралеса не раз поднимался вопрос о выходе к океану, потерянному Боливией по результатам Тихоокеанской войны конца XIX столетия. В 2006 году стороны договорились вести переговоры по этому вопросу, которые ожидаемо ни к чему не привели. В 2013 году Боливия подала иск в суд ООН с требованием обязать Чили вести переговоры, который был отвергнут в 2018-м. Но по политическим причинам правительство Моралеса не могло отказаться от морского требования, и Министерство иностранных дел Боливии не перестает напоминать об этом.
В 2016 году, уже по инициативе Чили, страны встретились в суде ООН по вопросу юрисдикции над рекой Силала, которая начинается в Боливии и выходит в океан на территории Чили. В 2022-м суд признал реку международной, и позволил использовать ее и Чили, и Боливии.
Сказать, что Соединенные Штаты были не в восторге от новоизбранного боливийского президента — это ничего не сказать. Вскоре после выборов 2005-го США начали экономическое давление на Боливию. И надо бы вспомнить, что это были за времена: помимо ставших уже обыденностью «визитов» американских войск в «страны богатые нефтью и с дефицитом демократии», у президента Джорджа Буша младшего появилась новая фишка — все неугодные верхушке американского капитала вдруг сразу оказывались террористами или их спонсорами. Не прошло и года, как имя Моралеса пополнило этот список наряду с Фиделем Кастро и Уго Чавесом. В то же время Буш предоставил политическое убежище бывшему президенту Боливии Гонсало Санчес де Лосаде, ответственному за гибель десятков протестующих в 2003 году. Что тут сказать? Новоизбранный председатель профсоюза производителей коки — террорист, а отдававший военным приказ расстреливать народные протесты Санчес де Лосада — защитник свободы, демократии и прав человека. Как говорится, смотрите не перепутайте!
В 2008 году Боливия и США разорвали дипломатические отношения из-за предоставления американским посольством помощи сепаратистскому движению на востоке страны. Помимо посла Филипа Голдберга из страны спровадили ряд действовавших там американских правительственных организаций, обвиненных в шпионаже и раскачиванию положения в стране. Тогда совместное политическое выступление латиноамериканских стран сорвало планы американского империализма.
Совместно с другими странами региона, Боливия выступала против создания американских военных баз в Колумбии. Эво Моралес обвинял США в организации госпереворота в Гондурасе в 2009 году и осуждал войну 2011-го в Ливии. Боливия налаживала связи с противниками США не только в регионе, но и в других частях света. Так, в 2008 году в Ла-Пасе открылось посольство Ирана, а с 2011-го страна начала сближаться с Китаем. Возобновление дипломатических отношений с США произошло в 2011 году, с приходом Обамы.
В 2013 году произошел скандал из-за попытки европейских властей обыскать самолет Моралеса. Тогда власти Франции, Испании, Португалии и Италии закрыли свое воздушное пространство для самолета боливийского президента, летевшего из Москвы на родину. Свое решение они объяснили опасениями, что на борту дипломатического рейса мог находиться беглый сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден, передавший СМИ секретную информацию о программе слежки американских спецслужб за гражданами многих стран мира. После совершения вынужденной посадки самолета в Вене, австрийские власти попыталась обыскать дипломатический рейс в нарушение норм международного права. Эта ситуация вызвала новую волну напряжения в отношениях Боливии и США, а также глубокое возмущение в Латинской Америке.
Способность правительства Моралеса играть на противостоянии американского империализма с новыми империалистами стала еще одним фактором, позволившим удерживать власть почти полтора десятилетия. Для обеспечения внешнеполитической безопасности в условиях конфронтации с США Эво Моралес активно работал над привлечением в Боливию российского и китайского капитала. В частности, в нефтегазовый сектор страны стал активно проникать «Газпром», а «Росатом» был привлечен к созданию Боливийского центра ядерных исследований и технологий. На голосовании в ООН о непризнании референдума в Крыму в 2014 году Боливия голосовала против.
Эво Моралес разорвал дипломатические отношения и международные договоры с Израилем в 2009 году из-за политики апартеида, осуществляемой Израилем в отношении палестинцев. Он резко критиковал военную операцию Израиля в Секторе Газа в 2014 году, в ходе которой погибло несколько тысяч палестинцев, 70 % из которых были гражданскими.
3.6. Трудовые отношения и социальная сфера
Политика правительства Эво Моралеса в области трудовых отношений не хуже экономической политики позволяет прочувствовать сущность «Боливийского социализма». Представители MAS не реформировали ни трудовое право, ни Кодекс социальной защиты, ни Процессуально-трудовой кодекс, который регулирует деятельность трудовых судов, ни наследственное право, нормы которых были приняты в 1970-х годах местным «Пиночетиком». Конституция 2009 года гарантирует трудящимся лишь общепринятые права, включая право на объединение в профсоюзы и право на забастовку.
Наиболее организованной частью боливийского пролетариата по традиции являются 100 тыс. шахтеров. В 2007 году на фоне снижения цен на металлы горнодобывающая компания Glencore International уволила 700 шахтеров, которые в ответ стали угрожать захватом нескольких принадлежавших ей рудников. В то же время Эво Моралес занимался национализацией завода «Vinto», принадлежавшего этой компании; но там претензии были привязаны к самому заводу. А вот сведений о поддержке правительством Боливии уволенных шахтеров найти не удалось.
В 2016 году произошла самая громкая забастовка шахтеров против закона о кооперативах. Основными требованиями протестующих были повышение зарплаты, повышение роли профсоюзов и смягчение экологического законодательства. Когда шахтеры перекрыли дорогу государственного значения между городами Ла-Пас и Оруро, полиция применила к ним силу. После этого боливийские шахтеры напомнили властям, что с ними не забалуешь, и взяли под белы рученьки приехавшего на место событий заместителя министра внутренних дел Родольфо Ильянеса. Глава профсоюза шахтеров Джошуа Кари Кари предупреждал, что, если власти не будут применять к шахтерам силовых мер, то жизни замминистра ничего угрожать не будет. А в противном случае шахтеры обещали «разместить замминистра в двух разных коробках». После того, как полиция убила нескольких бастующих шахтеров, Родольфо Ильянеса забили до смерти. В следующие месяцы волна репрессий со стороны властей прокатилась по всей отрасли.
В 2010 году Конгресс Боливии, где MAS имела конституционное большинство, принял закон сокращающий минимальный возраст при приеме на работу с 14 до 10 лет. По данным официальной статистики в Боливии 850 тыс. малолетних работников.
Необходимо отметить, что в Боливии случались и забастовки весьма экзотичных для этого движения профессий — полицейских и военных. В 2012 году сотрудники полицейского спецподразделения с женами захватили казармы и устроили беспорядки вблизи президентского дворца в Ла-Пасе с требованием повысить им зарплаты и пенсии до уровня военнослужащих. А в 2014 году 700 военнослужащих из числа индейских народов вышли на митинг за улучшение условий службы и против проявлений расизма со стороны офицеров. Эти протесты были подавлены властями.
Некоторое улучшение положения рабочего класса произошло в области сельского хозяйства. На востоке Боливии сельскохозяйственные рабочие остаются на положении батраков, но государство увеличило свое присутствие в этом регионе. Мобильные бригады министерства труда заставляют землевладельцев выплачивать компенсации эксплуатируемым крестьянам за нарушение и без того максимально лояльного к работодателю трудового права. К примеру, в 2018 году в департаменте Бени было зарегистрировано 1152 жалобы от работников, и Министерство труда взыскало в их пользу 865 314 боливиано (110 200 евро).
За время правления Эво Моралеса в условиях улучшения материального благополучия значительной части населения и увеличения численности «рабочей аристократии» снизился накал классовой борьбы в городах Боливии. Там получили широкое распространение, так сказать, «евролевые» — группы мирных, максимально безопасных для капиталистического строя активистов, далеких от темы классовой борьбы. Они мобилизуются на борьбу за права женщин, защиту животных, и т. п., но выступления рабочих их уже не привлекают.
Правительство Моралеса вкладывало огромные средства в боливийское здравоохранение и привлекало кубинских специалистов для реформирования боливийской медицины, что позволило достичь огромных успехов в этой отрасли. В рамках программы «Больницы для Боливии» было построено или переоснащено 46 больниц, а запущенная в 2013 году программа «Мое здоровье» обеспечила бесплатную медицинскую помощь для 8 млн жителей беднейших районов страны. Ведется строительство трех ядерных медицинских исследовательских центров для поиска лекарств от болезней, а также государство инвестировало более 150 млн долларов в борьбу с раком.
В начале своего правления Моралес подписал с Фиделем Кастро соглашение о двустороннем сотрудничестве, предполагавшее обучение 5 тыс. боливийских врачей на Острове Свободы за счет кубинского государства. Кубинские врачи также безвозмездно работали в Боливии по программе правительства Кубы по бесплатному лечению зрения для жителей Латинской Америки. Среди людей, которые получили кубинскую медицинскую помощь, по иронии судьбы также оказался убивший в 1967 году Че Гевару бывший солдат боливийской армии.
При поддержке Кубы и Венесуэлы в стране была проведена программа «Да, я могу» (Yo, sí puedo) искоренившая безграмотность в стране. Кубинский педагогический метод аудиовизуальной грамотности, известный под лозунгом «Yo, sí puedo» работает за счет использования видеокассет, на которых учителя обучают чтению и письму. Правительства Кубы и Венесуэлы также предоставили техническую помощь, чтобы метод мог быть реализован даже в самой богом забытой деревне. В рамках кампании к концу 2008 года удалось научить читать и писать около 827 тыс. боливийцев, а Боливия стала третьей после социалистической Кубы (1961) и буржуазной Венесуэлы (2005) страной Латинской Америки, ликвидировавшей безграмотность. Это результат, которого не достигли ни Бразилия, ни Мексика, ни Аргентина — три крупнейшие капиталистические экономики региона.
Политика правительства Эво Моралеса в области трудовых отношений не хуже экономической политики позволяет прочувствовать сущность «Боливийского социализма». Представители MAS не реформировали ни трудовое право, ни Кодекс социальной защиты, ни Процессуально-трудовой кодекс, который регулирует деятельность трудовых судов, ни наследственное право, нормы которых были приняты в 1970-х годах местным «Пиночетиком». Конституция 2009 года гарантирует трудящимся лишь общепринятые права, включая право на объединение в профсоюзы и право на забастовку.
Наиболее организованной частью боливийского пролетариата по традиции являются 100 тыс. шахтеров. В 2007 году на фоне снижения цен на металлы горнодобывающая компания Glencore International уволила 700 шахтеров, которые в ответ стали угрожать захватом нескольких принадлежавших ей рудников. В то же время Эво Моралес занимался национализацией завода «Vinto», принадлежавшего этой компании; но там претензии были привязаны к самому заводу. А вот сведений о поддержке правительством Боливии уволенных шахтеров найти не удалось.
В 2016 году произошла самая громкая забастовка шахтеров против закона о кооперативах. Основными требованиями протестующих были повышение зарплаты, повышение роли профсоюзов и смягчение экологического законодательства. Когда шахтеры перекрыли дорогу государственного значения между городами Ла-Пас и Оруро, полиция применила к ним силу. После этого боливийские шахтеры напомнили властям, что с ними не забалуешь, и взяли под белы рученьки приехавшего на место событий заместителя министра внутренних дел Родольфо Ильянеса. Глава профсоюза шахтеров Джошуа Кари Кари предупреждал, что, если власти не будут применять к шахтерам силовых мер, то жизни замминистра ничего угрожать не будет. А в противном случае шахтеры обещали «разместить замминистра в двух разных коробках». После того, как полиция убила нескольких бастующих шахтеров, Родольфо Ильянеса забили до смерти. В следующие месяцы волна репрессий со стороны властей прокатилась по всей отрасли.
В 2010 году Конгресс Боливии, где MAS имела конституционное большинство, принял закон сокращающий минимальный возраст при приеме на работу с 14 до 10 лет. По данным официальной статистики в Боливии 850 тыс. малолетних работников.
Необходимо отметить, что в Боливии случались и забастовки весьма экзотичных для этого движения профессий — полицейских и военных. В 2012 году сотрудники полицейского спецподразделения с женами захватили казармы и устроили беспорядки вблизи президентского дворца в Ла-Пасе с требованием повысить им зарплаты и пенсии до уровня военнослужащих. А в 2014 году 700 военнослужащих из числа индейских народов вышли на митинг за улучшение условий службы и против проявлений расизма со стороны офицеров. Эти протесты были подавлены властями.
Некоторое улучшение положения рабочего класса произошло в области сельского хозяйства. На востоке Боливии сельскохозяйственные рабочие остаются на положении батраков, но государство увеличило свое присутствие в этом регионе. Мобильные бригады министерства труда заставляют землевладельцев выплачивать компенсации эксплуатируемым крестьянам за нарушение и без того максимально лояльного к работодателю трудового права. К примеру, в 2018 году в департаменте Бени было зарегистрировано 1152 жалобы от работников, и Министерство труда взыскало в их пользу 865 314 боливиано (110 200 евро).
За время правления Эво Моралеса в условиях улучшения материального благополучия значительной части населения и увеличения численности «рабочей аристократии» снизился накал классовой борьбы в городах Боливии. Там получили широкое распространение, так сказать, «евролевые» — группы мирных, максимально безопасных для капиталистического строя активистов, далеких от темы классовой борьбы. Они мобилизуются на борьбу за права женщин, защиту животных, и т. п., но выступления рабочих их уже не привлекают.
Правительство Моралеса вкладывало огромные средства в боливийское здравоохранение и привлекало кубинских специалистов для реформирования боливийской медицины, что позволило достичь огромных успехов в этой отрасли. В рамках программы «Больницы для Боливии» было построено или переоснащено 46 больниц, а запущенная в 2013 году программа «Мое здоровье» обеспечила бесплатную медицинскую помощь для 8 млн жителей беднейших районов страны. Ведется строительство трех ядерных медицинских исследовательских центров для поиска лекарств от болезней, а также государство инвестировало более 150 млн долларов в борьбу с раком.
В начале своего правления Моралес подписал с Фиделем Кастро соглашение о двустороннем сотрудничестве, предполагавшее обучение 5 тыс. боливийских врачей на Острове Свободы за счет кубинского государства. Кубинские врачи также безвозмездно работали в Боливии по программе правительства Кубы по бесплатному лечению зрения для жителей Латинской Америки. Среди людей, которые получили кубинскую медицинскую помощь, по иронии судьбы также оказался убивший в 1967 году Че Гевару бывший солдат боливийской армии.
При поддержке Кубы и Венесуэлы в стране была проведена программа «Да, я могу» (Yo, sí puedo) искоренившая безграмотность в стране. Кубинский педагогический метод аудиовизуальной грамотности, известный под лозунгом «Yo, sí puedo» работает за счет использования видеокассет, на которых учителя обучают чтению и письму. Правительства Кубы и Венесуэлы также предоставили техническую помощь, чтобы метод мог быть реализован даже в самой богом забытой деревне. В рамках кампании к концу 2008 года удалось научить читать и писать около 827 тыс. боливийцев, а Боливия стала третьей после социалистической Кубы (1961) и буржуазной Венесуэлы (2005) страной Латинской Америки, ликвидировавшей безграмотность. Это результат, которого не достигли ни Бразилия, ни Мексика, ни Аргентина — три крупнейшие капиталистические экономики региона.
4. Государственный переворот 2019 года
4.1. Свержение Эво Моралеса
Несмотря на усталость боливийского народа от Эво Моралеса, которая выразилась в проигрыше им референдума о возможности президента идти на третий строк, благодаря ухищрениям, Конституционный суд разрешил ему пойти на выборы и в 2019 году. 20 октября прошел первый тур выборов, результаты которого оказались весьма сомнительными: во время подсчета голосов постоянно обновлялись данные, и по ним Эво Моралес шел с небольшим отрывом от главного кандидата оппозиции Карлоса Месы из партии «Гражданское Сообщество» (Comunidad Ciudadana), но на сутки трансляция прекратилась, а после возобновления показывала результаты, по которым Моралес побеждал в первом туре. 21 октября недовольные подсчетом голосов жители Ла-Паса начали собираться возле компьютерных центров, которые обрабатывали результаты выборов. В тот же день у людей, которые не являлись членами избирательного трибунала были обнаружены бюллетени и избирательные материалы. В городе Кочабамба начался митинг против фальсификации, который быстро перешел в столкновения с полицией, приведших к ранениям и арестам нескольких протестующих. 22 октября набравшийся смелости «Комитет за Санта-Крус», во главе которого стоял Фернандо Камачо, и другие оппозиционные к MAS силы призвали к всеобщей бессрочной забастовке.
Помимо сторонников правых, протесты против фальсификации выборов поддержало множество боливийцев, придерживающихся отнюдь не либеральных взглядов. Так, в своем манифесте протестующие Кочабамбы объявили Моралеса фальсификатором выборов, предателем и агентом транснациональных корпораций. Помимо отставки президента они требовали сохранения контроля государства над добывающей промышленностью, включения медицинского страхования в Общее трудовое законодательство, и выступали против сокращения государственных расходов на образование. Бывшие лидеры Боливийской конфедерации трудящихся обвинили руководство профсоюзов в пособничестве правительству:
«Нынешний исполнительный комитет не только распорядился проголосовать за незаконный тандем Эво Моралеса и Альваро Гарсиа Линера, но и теперь присоединяется к попыткам довести до конца фальсификацию выборов и высмеять демократическую волю боливийского народа».
Что же до шахтерских организаций, самой боевой части боливийского пролетариата, то их позиция разделилась. Шахтеры Потоси выступили за отмену результатов выборов. Позицию коллектива выразил генеральный секретарь Смешанного профсоюза горняков Сан-Кристобаля Энрике Кайо: «Мы не руководствуемся принципом защиты Эво Моралеса, у нас нет позиции ни Эво, ни Месы. Мы просим, чтобы выборы были отменены, чтобы мы могли продолжить». Он также напомнил, что «социалистическое» правительство не оказывало шахтерам помощи в их борьбе за выплату социальных пособий, причитающихся им от горнодобывающей компании. В то же время их коллеги из Чойлы разочаровавшись в MAS решили выступить в поддержку Карлоса Месы. А вот шахтеры государственной компании Huanuni прошли маршем в Ла-Пасе в поддержку президента.
Сельское население и производители коки в свою очередь выражали активную поддержку Эво Моралесу. Они стали перекрывать дороги, не пропуская противников президента, а в противовес забастовкам противников MAS в городах сторонники Моралеса начали так называемую «осаду городов» — они перекрывали въезды в города для автомобильного транспорта. 9‒10 ноября боевики MAS провели несколько засад на караваны с протестующими на шоссе Потоси-Оруро, в ходе которых из-за применения камней, динамита, огнестрельного оружия и прочего 65 человек получили ранения.
Во время протестов как сторонники Эво Моралеса, так и его противники активно прибегали к насилию в отношении оппонентов, вот только до свержения Эво сторонники MAS могли рассчитывать на покровительство полиции, в отличии от противников власти. Хотя большинство пострадавших было из-за столкновений между группами, выступавшими за или против Моралеса, сказать, что боливийская полиция отличилась гуманизмом, не приходится. «Космонавты» из МВД также обеспечили сотням протестующих направление в травматологию, из которых как минимум несколько человек скончались.
5 октября Организация Американских Государств опубликовала окончательные выводы о проверке избирательного процесса:
С 7 по 10 октября против президента стали выступать и полицейские. Помимо призывов к новым выборам, полиция не забыла своих требования 2012 года о повышении зарплат и пенсий до уровня военных. Вскоре командующий вооруженными силами Боливии генерал Уильямс Калиман призвал Моралеса подать в отставку и пообещал, что военные окажут сопротивление тем, кто попытается выступить против протестующих с оружием. 10 октября 2019 года Эво Моралес ушел в отставку и покинул страну.
Несмотря на усталость боливийского народа от Эво Моралеса, которая выразилась в проигрыше им референдума о возможности президента идти на третий строк, благодаря ухищрениям, Конституционный суд разрешил ему пойти на выборы и в 2019 году. 20 октября прошел первый тур выборов, результаты которого оказались весьма сомнительными: во время подсчета голосов постоянно обновлялись данные, и по ним Эво Моралес шел с небольшим отрывом от главного кандидата оппозиции Карлоса Месы из партии «Гражданское Сообщество» (Comunidad Ciudadana), но на сутки трансляция прекратилась, а после возобновления показывала результаты, по которым Моралес побеждал в первом туре. 21 октября недовольные подсчетом голосов жители Ла-Паса начали собираться возле компьютерных центров, которые обрабатывали результаты выборов. В тот же день у людей, которые не являлись членами избирательного трибунала были обнаружены бюллетени и избирательные материалы. В городе Кочабамба начался митинг против фальсификации, который быстро перешел в столкновения с полицией, приведших к ранениям и арестам нескольких протестующих. 22 октября набравшийся смелости «Комитет за Санта-Крус», во главе которого стоял Фернандо Камачо, и другие оппозиционные к MAS силы призвали к всеобщей бессрочной забастовке.
Помимо сторонников правых, протесты против фальсификации выборов поддержало множество боливийцев, придерживающихся отнюдь не либеральных взглядов. Так, в своем манифесте протестующие Кочабамбы объявили Моралеса фальсификатором выборов, предателем и агентом транснациональных корпораций. Помимо отставки президента они требовали сохранения контроля государства над добывающей промышленностью, включения медицинского страхования в Общее трудовое законодательство, и выступали против сокращения государственных расходов на образование. Бывшие лидеры Боливийской конфедерации трудящихся обвинили руководство профсоюзов в пособничестве правительству:
«Нынешний исполнительный комитет не только распорядился проголосовать за незаконный тандем Эво Моралеса и Альваро Гарсиа Линера, но и теперь присоединяется к попыткам довести до конца фальсификацию выборов и высмеять демократическую волю боливийского народа».
Что же до шахтерских организаций, самой боевой части боливийского пролетариата, то их позиция разделилась. Шахтеры Потоси выступили за отмену результатов выборов. Позицию коллектива выразил генеральный секретарь Смешанного профсоюза горняков Сан-Кристобаля Энрике Кайо: «Мы не руководствуемся принципом защиты Эво Моралеса, у нас нет позиции ни Эво, ни Месы. Мы просим, чтобы выборы были отменены, чтобы мы могли продолжить». Он также напомнил, что «социалистическое» правительство не оказывало шахтерам помощи в их борьбе за выплату социальных пособий, причитающихся им от горнодобывающей компании. В то же время их коллеги из Чойлы разочаровавшись в MAS решили выступить в поддержку Карлоса Месы. А вот шахтеры государственной компании Huanuni прошли маршем в Ла-Пасе в поддержку президента.
Сельское население и производители коки в свою очередь выражали активную поддержку Эво Моралесу. Они стали перекрывать дороги, не пропуская противников президента, а в противовес забастовкам противников MAS в городах сторонники Моралеса начали так называемую «осаду городов» — они перекрывали въезды в города для автомобильного транспорта. 9‒10 ноября боевики MAS провели несколько засад на караваны с протестующими на шоссе Потоси-Оруро, в ходе которых из-за применения камней, динамита, огнестрельного оружия и прочего 65 человек получили ранения.
Во время протестов как сторонники Эво Моралеса, так и его противники активно прибегали к насилию в отношении оппонентов, вот только до свержения Эво сторонники MAS могли рассчитывать на покровительство полиции, в отличии от противников власти. Хотя большинство пострадавших было из-за столкновений между группами, выступавшими за или против Моралеса, сказать, что боливийская полиция отличилась гуманизмом, не приходится. «Космонавты» из МВД также обеспечили сотням протестующих направление в травматологию, из которых как минимум несколько человек скончались.
5 октября Организация Американских Государств опубликовала окончательные выводы о проверке избирательного процесса:
- Системы обнародования предварительных результатов выборов и окончательного подсчета голосов были несовершенными;
- При заполнении избирательных протоколов в шести департаментах систематически проводились манипуляции и фальсификации, направленные в пользу одного и того же кандидата;
- Плохая цепочка обеспечения сохранности не гарантировала, что избирательные материалы не будут подделаны и/или заменены;
- Протоколы наблюдателей ненадежны; тем не менее, детальный анализ показывает, что протоколы подсчета последних 4,4 % голосов демонстрируют резкий рост количества наблюдений;
- Тренд, который демонстрирует подсчет последних 5 % голосов, крайне маловероятен.
С 7 по 10 октября против президента стали выступать и полицейские. Помимо призывов к новым выборам, полиция не забыла своих требования 2012 года о повышении зарплат и пенсий до уровня военных. Вскоре командующий вооруженными силами Боливии генерал Уильямс Калиман призвал Моралеса подать в отставку и пообещал, что военные окажут сопротивление тем, кто попытается выступить против протестующих с оружием. 10 октября 2019 года Эво Моралес ушел в отставку и покинул страну.
4.2. «Восстановление свободы и демократии» либералами
После свержения Эво Моралеса временным президентом Боливии стала второй заместитель председателя Палаты сенаторов Конгресса Боливии Жанин Аньес Чавес, хотя голосование по ее назначению в парламенте не собрало кворума. Тем не менее, протесты на этом не окончились, а сторонники Эво Моралеса еще активнее выходили на улицы. И если Моралес не хотел отдавать приказ о расстреле демонстрантов, то либеральная икона Жанин Аньес не стала мелочиться и 15 ноября издала декрет о снятии ответственности с вооруженных сил за действия против протестующих:
«Личный состав Вооруженных сил, участвующий в операциях по восстановлению порядка и общественной стабильности, будет освобожден от уголовной ответственности, если в соответствии со своими конституционными функциями он действует в рамках законной обороны или в состоянии необходимости...
...Вооруженные силы должны строить свои действия в соответствии с утвержденным Руководством по применению силы, имея возможность использовать все доступные средства, которые пропорциональны риску операций».
Божившийся, что армия не выступит против народа, генерал Уильямс Калиман показал, что он «настоящий хозяин своего слова»: захотел — дал, захотел — забрал. В тот же день в Кочабамбе были убиты 9 и ранены 135 протестующих. Полицейская операция против протестующих в Эль-Альто 20 ноября закончилась гибелью шести человек и ранением более тридцати, а полиция выпустила пресс-релиз, в котором сообщила, что протестующие сами себя взорвали. Министр обороны Фернандо Лопес вообще не заморачивался подбором выражений в отношении сограждан:
«Неуправляемые толпы решили ворваться на завод Сенката с динамитными шашками, решили взорвать стены динамитом, сжечь автомобили и украсть газовые баллоны. Мы считаем, что этими людьми движет исключительно вандализм. Они получают приказы, деньги, алкоголь и кокаин, чтобы устраивать акты вандализма, сеять террор и панику, и только с этой целью».
Помимо военных и полицаев свою лепту в подавление протестующих внесли местные фашистские организации, наиболее яркой из которых было «Молодежное сопротивление» — это были достойные продолжатели традиций расистских банд из Санта-Крус времен сепаратистских выступлений 2008 года. Еще до свержения Моралеса шайки мотоциклистов с дубинами совершали массовые погромы в отношении не только сторонников MAS, но и аполитичных граждан индейского происхождения; но по-настоящему они развернулись после прихода к власти либералов. Временное правительство Жанин Аньес демонстративно использовало расистскую и, можно сказать, черносотенную риторику в отношении индейского населения при поддержке военных, фашистов, и многих деятелей различных конфессий церкви. Вот всякие BBC, Голос Америки и прочие как-то не любили цитировать сеньору Аньес, однако ее высказывания заслуживают внимания, Тарквемада бы оценил:
«Библия имеет для нас большое значение. Наша сила и мощь — в Господе. Да благословит нас, братьев Боливии, Господь… Я мечтаю, чтобы в Боливии не было сатанинских обрядов коренных народов».
Давление ООН вынудило Жанин Аньес вернуть армию в казармы. К 21 ноября в результате протестов погибли 32 и получили ранение 715 человек, но протесты по всей стране не стихали до проведения новых выборов в 2020 году.
С приходом либералов сразу же произошел «ренессанс» отношений с США и конфронтация с противниками Америки. Если у Эво Моралеса протесты против него организовали США, то Жанин Аньес нашла в протестах «кубинский след». Посольство Кубы и кубинские врачи были высланы из страны. Она признала временным президентом Венесуэлы Хуана Гуайдо и восстановила связи с Израилем. Словом, политика Боливии вернулась на рельсы конца XX столетия.
После свержения Эво Моралеса временным президентом Боливии стала второй заместитель председателя Палаты сенаторов Конгресса Боливии Жанин Аньес Чавес, хотя голосование по ее назначению в парламенте не собрало кворума. Тем не менее, протесты на этом не окончились, а сторонники Эво Моралеса еще активнее выходили на улицы. И если Моралес не хотел отдавать приказ о расстреле демонстрантов, то либеральная икона Жанин Аньес не стала мелочиться и 15 ноября издала декрет о снятии ответственности с вооруженных сил за действия против протестующих:
«Личный состав Вооруженных сил, участвующий в операциях по восстановлению порядка и общественной стабильности, будет освобожден от уголовной ответственности, если в соответствии со своими конституционными функциями он действует в рамках законной обороны или в состоянии необходимости...
...Вооруженные силы должны строить свои действия в соответствии с утвержденным Руководством по применению силы, имея возможность использовать все доступные средства, которые пропорциональны риску операций».
Божившийся, что армия не выступит против народа, генерал Уильямс Калиман показал, что он «настоящий хозяин своего слова»: захотел — дал, захотел — забрал. В тот же день в Кочабамбе были убиты 9 и ранены 135 протестующих. Полицейская операция против протестующих в Эль-Альто 20 ноября закончилась гибелью шести человек и ранением более тридцати, а полиция выпустила пресс-релиз, в котором сообщила, что протестующие сами себя взорвали. Министр обороны Фернандо Лопес вообще не заморачивался подбором выражений в отношении сограждан:
«Неуправляемые толпы решили ворваться на завод Сенката с динамитными шашками, решили взорвать стены динамитом, сжечь автомобили и украсть газовые баллоны. Мы считаем, что этими людьми движет исключительно вандализм. Они получают приказы, деньги, алкоголь и кокаин, чтобы устраивать акты вандализма, сеять террор и панику, и только с этой целью».
Помимо военных и полицаев свою лепту в подавление протестующих внесли местные фашистские организации, наиболее яркой из которых было «Молодежное сопротивление» — это были достойные продолжатели традиций расистских банд из Санта-Крус времен сепаратистских выступлений 2008 года. Еще до свержения Моралеса шайки мотоциклистов с дубинами совершали массовые погромы в отношении не только сторонников MAS, но и аполитичных граждан индейского происхождения; но по-настоящему они развернулись после прихода к власти либералов. Временное правительство Жанин Аньес демонстративно использовало расистскую и, можно сказать, черносотенную риторику в отношении индейского населения при поддержке военных, фашистов, и многих деятелей различных конфессий церкви. Вот всякие BBC, Голос Америки и прочие как-то не любили цитировать сеньору Аньес, однако ее высказывания заслуживают внимания, Тарквемада бы оценил:
«Библия имеет для нас большое значение. Наша сила и мощь — в Господе. Да благословит нас, братьев Боливии, Господь… Я мечтаю, чтобы в Боливии не было сатанинских обрядов коренных народов».
Давление ООН вынудило Жанин Аньес вернуть армию в казармы. К 21 ноября в результате протестов погибли 32 и получили ранение 715 человек, но протесты по всей стране не стихали до проведения новых выборов в 2020 году.
С приходом либералов сразу же произошел «ренессанс» отношений с США и конфронтация с противниками Америки. Если у Эво Моралеса протесты против него организовали США, то Жанин Аньес нашла в протестах «кубинский след». Посольство Кубы и кубинские врачи были высланы из страны. Она признала временным президентом Венесуэлы Хуана Гуайдо и восстановила связи с Израилем. Словом, политика Боливии вернулась на рельсы конца XX столетия.
5. Выборы 2020: возвращение «Движения к социализму»
Аннотация либеральной программы экономических реформ обеспокоила не только рабочий класс, но в первую очередь мелкую буржуазию чолос. Помимо сокращения социальной сферы, идея отхода от госкапитализма в условия частных монополий и грозящего прихода международного капитала на внутренний рынок Боливии обещала чолос весьма грустные перспективы.
Выборы 2020 года изначально планировали на 3 мая, но видя массовое недовольство боливийцев либералами, Жанин Аньес под разными предлогами их отложила сперва на 6 сентября, а в итоге аж на 18 октября. Основными кандидатами были Луис Альберто Арсе Катакора (MAS), Карлос Диего Меса Хисберт (CC) и глава «Комитета за Санта-Крус» Луис Фернандо Камачо.
В преддверии выборов либеральное правительство продолжало политику массового запугивания оппозиции, и выборы начались в условиях жесткого ограничения демократических свобод. Во все крупные города Боливии были введены войска и полиция для предотвращения любых возможных демонстраций, а по всей стране правительство запугивало членов MAS. «Борцы за свободу слова» закрыли более 50 оппозиционных радиостанций. Кандидатам от MAS постоянно угрожали, а юриста, который занимался их регистрацией на выборы, пытались арестовать.
В департаментах, где наиболее активно поддерживали MAS, разворачивались серьезные репрессии, и их угрожали лишить права голоса. Министр внутренних дел Артуро Мурильо призвал лишить избирательных прав население Чапаре — региона, который почти полностью поддерживал MAS.
Несмотря на все это либеральная программа была так негативно воспринята подавляющим большинством боливийского общества, что Луис Арсе набрал 55,1 % голосов, а MAS получила 73 из 130 мест в Палате депутатов и 21 из 36 в Сенате Конгресса Боливии. Карлос Меса набрал 28,8 %, а Луис Фернандо Камачо 14 %. Явка составила 88,5 %.
Выборы 2020 года изначально планировали на 3 мая, но видя массовое недовольство боливийцев либералами, Жанин Аньес под разными предлогами их отложила сперва на 6 сентября, а в итоге аж на 18 октября. Основными кандидатами были Луис Альберто Арсе Катакора (MAS), Карлос Диего Меса Хисберт (CC) и глава «Комитета за Санта-Крус» Луис Фернандо Камачо.
В преддверии выборов либеральное правительство продолжало политику массового запугивания оппозиции, и выборы начались в условиях жесткого ограничения демократических свобод. Во все крупные города Боливии были введены войска и полиция для предотвращения любых возможных демонстраций, а по всей стране правительство запугивало членов MAS. «Борцы за свободу слова» закрыли более 50 оппозиционных радиостанций. Кандидатам от MAS постоянно угрожали, а юриста, который занимался их регистрацией на выборы, пытались арестовать.
В департаментах, где наиболее активно поддерживали MAS, разворачивались серьезные репрессии, и их угрожали лишить права голоса. Министр внутренних дел Артуро Мурильо призвал лишить избирательных прав население Чапаре — региона, который почти полностью поддерживал MAS.
Несмотря на все это либеральная программа была так негативно воспринята подавляющим большинством боливийского общества, что Луис Арсе набрал 55,1 % голосов, а MAS получила 73 из 130 мест в Палате депутатов и 21 из 36 в Сенате Конгресса Боливии. Карлос Меса набрал 28,8 %, а Луис Фернандо Камачо 14 %. Явка составила 88,5 %.
Выводы
Подводя итоги этой истории, можно с полной уверенностью сказать, что «Движение к социализму» является буржуазной партией в красной обертке, с несколько коричневатым оттенком. Еще в начале своего правления MAS заявила «Мы пока не видим возможности построения коммунизма...» и решила строить «Андский капитализм». Она активно удовлетворяла хотелки мелкой и средней буржуазии, но не реформировала трудовое право, установленное в 1970-х местным «Пиночетиком», и не оказывали поддержку рабочим выступлениям, а порой даже подавляли их. При Эво Моралесе Боливия достигла колоссальных достижений в экономике, но плоды этого пожала преимущественно буржуазия. Хотя нужно отметить, что и на долю рабочих выпали некоторые подачки в виде достижений в социальной сфере, колоссальных для Латинской Америки. А представьте, какую райскую жизнь можно установить, если вовсе спихнуть эксплуататоров...
Называть «Движение к социализму» антиимпериалистами не менее смешно: они лишь перераспределили доли капитала империалистических стран, что позволило Боливии более успешно играть на противоречиях между империалистическими блоками.
А иначе и быть не может, когда у вас в партии такой идеологический раздрай. Истинная пролетарская партия руководствуется в своих действиях теорией, выработанной в неразрывной связи с практикой товарищами по всему земному шару. Всем членам MAS, которые искренне желают счастья трудовому народу, советуем браться за изучение классиков: в частности, «Государства и революции» и «Империализма, как высшей стадии капитализма» Ленина, а также настоятельно советуем почитать «Марксизм и национальный вопрос» Сталина. К слову, эти работы проходят у нас на КМБ.
Словом, классовая борьба в Боливии продолжается, и рабочий класс Украины стоит в ней на одной стороне с трудовым народом Боливии и всех остальных стран мира. Мы шлем им наш товарищеский привет:
Называть «Движение к социализму» антиимпериалистами не менее смешно: они лишь перераспределили доли капитала империалистических стран, что позволило Боливии более успешно играть на противоречиях между империалистическими блоками.
А иначе и быть не может, когда у вас в партии такой идеологический раздрай. Истинная пролетарская партия руководствуется в своих действиях теорией, выработанной в неразрывной связи с практикой товарищами по всему земному шару. Всем членам MAS, которые искренне желают счастья трудовому народу, советуем браться за изучение классиков: в частности, «Государства и революции» и «Империализма, как высшей стадии капитализма» Ленина, а также настоятельно советуем почитать «Марксизм и национальный вопрос» Сталина. К слову, эти работы проходят у нас на КМБ.
Словом, классовая борьба в Боливии продолжается, и рабочий класс Украины стоит в ней на одной стороне с трудовым народом Боливии и всех остальных стран мира. Мы шлем им наш товарищеский привет:
¡Proletarios de todos los países, uníos!
Рабочий Фронт Украины, в меру своих возможностей, всегда готов помочь в учебе или советом товарищам из любой страны. Вступайте в кружки, изучайте устройство мира, экономики и общества, применяйте полученные знания на практике! Только так мы проложим путь к лучшему будущему!
Рабочий Фронт Украины, в меру своих возможностей, всегда готов помочь в учебе или советом товарищам из любой страны. Вступайте в кружки, изучайте устройство мира, экономики и общества, применяйте полученные знания на практике! Только так мы проложим путь к лучшему будущему!
Источники:
- Боливия [Електронний ресурс] // Большая Советская Энциклопедия. ‒ Режим доступу до ресурсу: http://bse.sci-lib.com/article127049.html.
- Боливийские оловянные месторождения [Електронний ресурс] // Большая Советская Энциклопедия. ‒ Режим доступу до ресурсу: http://bse.sci-lib.com/article127016.html.
- Боливия [Електронний ресурс] // Горная энциклопедия. ‒ Режим доступу до ресурсу: http://www.mining-enc.ru/b/boliviya/.
- Боливийская революция 1952 [Електронний ресурс] // Большая Советская Энциклопедия. ‒ Режим доступу до ресурсу: http://bse.sci-lib.com/article127005.html.
- Президент Боливии в ближайшее время объявит о национализации земли [Електронний ресурс] // NEWSru.com. ‒ 2006. ‒ Режим доступу до ресурсу: https://www.newsru.com/world/07may2006/mora.html.
- Золотодобывающая промышленность Боливии. Обзор [Електронний ресурс] // Золотодобыча для профессионалов: специалистов, руководителей, инвесторов. ‒ 2021. ‒ Режим доступу до ресурсу: https://zolotodb.ru/article/12597.
- Glencore продала канадской Santa Cruz Silver Mining цинковые активы в Боливии [Електронний ресурс] // МИНПРОМ. ‒ 2021. ‒ Режим доступу до ресурсу: https://minprom.ua/news/276134.html.
- Потоси (департамент) [Електронний ресурс] // Википедия. ‒ 2022.
- Национализация в Боливии вызвала тревогу в европейских странах [Електронний ресурс] // DW. ‒ 2006.
- Война за воду в Кочабамбе [Електронний ресурс] // Wikipedia. ‒ 2022. ‒ Режим доступу до ресурсу: https://hmong.ru/wiki/Cochabamba_Water_War.
- Ай, Кочабамба! Как началась первая война за воду в ХХІ веке и есть ли в ней победители [Електронний ресурс] // ФОКУС. ‒ 2022. ‒ Режим доступу до ресурсу: https://focus.ua/world/505874-ay-kochabamba-kak-nachalas-pervaya-voyna-za-vodu-v-hhi-veke-i-est-li-v-ney-pobediteli.
- США назвали 16 стран, которые получат специальную финансовую помощь [Електронний ресурс] // NEWSru.com. ‒ 2004. ‒ Режим доступу до ресурсу: https://www.newsru.com/world/07may2004/aid.html.
- Беспорядки в Боливии: есть жертвы [Електронний ресурс] // РИА Новости. ‒ 2003. ‒ Режим доступу до ресурсу: https://ria.ru/20030214/319543.html.
- Боливия охвачена социальными волнениями, вызванными планами властей продать газ в Чили [Електронний ресурс] // NEWSru.com. ‒ 2003. ‒ Режим доступу до ресурсу: https://www.newsru.com/world/20sep2003/voln.html.
- СУД США ПРИЗНАЛ ЭКС-ПРЕЗИДЕНТА БОЛИВИИ ВИНОВНЫМ В СМЕРТИ ПРОТЕСТУЮЩИХ [Електронний ресурс] // NTD. ‒ 2018. ‒ Режим доступу до ресурсу: https://ntdtv.ru/68973-sud-ssha-priznal-eks-prezidenta-bolivii-vinovnym-v-smerti-protestuyushhih.
- Неверов К.А. Индихенистские движения Латинской Америки и глобализация: случай Боливии. ‒ 2013. ‒ https://cyberleninka.ru/article/n/indihenistskie-dvizheniya-latinskoy-ameriki-i-globalizatsiya-sluchay-bolivii.
- La elección presidencial del 18 de diciembre de 2005 en Bolivia [Електронний ресурс] // SciELO. ‒ 2007. ‒ Режим доступу до ресурсу: http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1012-25082007000200002.
- Президентом Боливии впервые в истории стал индеец-крестьянин [Електронний ресурс] // NEWSru.com. ‒ 2005. ‒ Режим доступу до ресурсу: https://www.newsru.com/world/19dec2005/bolivia.html.
- Щелков А.А. Кризис латиноамериканских левых режимов: боливийская драма ‒ https://cyberleninka.ru/article/n/krizis-latinoamerikanskih-levyh-rezhimov-boliviyskaya-drama/viewer.
- Президент Боливии национализирует природные ресурсы [Електронний ресурс] // NEWSru.com. ‒ 2006. ‒ Режим доступу до ресурсу: https://www.newsru.com/world/02may2006/nazi.html.
- Боливийские фермеры создают отряды самообороны, чтобы спасти свои земли от конфискации [Електронний ресурс] // NEWSru.com. ‒ 2006. ‒ Режим доступу до ресурсу: https://www.newsru.com/world/01jun2006/farmers.html.
- Еще два департамента в Боливии высказались за автономию [Електронний ресурс] // NEWSru.com. ‒ 2008. ‒ Режим доступу до ресурсу: https://www.newsru.com/world/02jun2008/referendum.html.
- Президент Боливии сохранил за собой пост в ходе референдума о доверии [Електронний ресурс] // NEWSru.com. ‒ 2008. ‒ Режим доступу до ресурсу: https://www.newsru.com/world/11aug2008/referendum.html.
- Боливия: фашизм в действии [Електронний ресурс] // научно-просветительского журнала «Скепсис». ‒ 2008. ‒ Режим доступу до ресурсу: https://scepsis.net/library/id_2188.html.
- В Боливии назвали имя президента: им стал первый в истории страны политический долгожитель Эво Моралес [Електронний ресурс] // NEWSru.com. ‒ 2014. ‒ Режим доступу до ресурсу: https://www.newsru.com/world/16oct2014/president3.html.
- Президент Боливии предложил отменить в стране григорианский календарь [Електронний ресурс] // NEWSru.com. ‒ 2016. ‒ Режим доступу до ресурсу: https://www.newsru.com/world/22jun2016/bolivia.html.
- Президент Боливии велел построить себе новый 29-этажный дворец [Електронний ресурс] // NEWSru.com. ‒ 2014. ‒ Режим доступу до ресурсу: https://www.newsru.com/world/02nov2014/morpalace.html.
- Граждане Боливии выступили против переизбрания президента Эво Моралеса на четвертый срок [Електронний ресурс] // NEWSru.com. ‒ 2016. ‒ Режим доступу до ресурсу: https://www.newsru.com/world/24feb2016/refitogi.html.
- Equipo económico de Bolivia presta ayuda a Venezuela [Електронний ресурс] // Opinión Bolivia . ‒ 2016. ‒ Режим доступу до ресурсу: https://www.opinion.com.bo/articulo/economi%C2%ADa/equipo-econ-oacute-mico-bolivia-presta-ayuda-venezuela/20160201200100542220.html.
- Relaciones Bolivia-Venezuela [Електронний ресурс] // Wikipedia . ‒ 2023. ‒ Режим доступу до ресурсу: https://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_Bolivia-Venezuela.
- Acta de ka XVII reunión del mecanismo de consultas políticas Chile-Bolivia [Електронний ресурс] // Ministerio de Relaciones Exteriores - Portada. ‒ 2007. ‒ Режим доступу до ресурсу: https://www.minrel.gob.cl/acta-de-ka-xvii-reunion-del-mecanismo-de-consultas-politicas/minrel_old/2008-07-16/180444.html.
- Chile y Bolivia sellan el fin del conflicto en La Haya sobre el río Silala [Електронний ресурс] // RFI. ‒ 2022. ‒ Режим доступу до ресурсу: https://www.rfi.fr/es/programas/noticias-de-am%C3%A9rica/20221202-chile-bolivia-rio-silala-cij-fallo-la-haya.
- ФБР включило президента Боливии Эво Моралеса в список 44 тысяч возможных террористов [Електронний ресурс] // NEWSru.com. ‒ 2006. ‒ Режим доступу до ресурсу: https://www.newsru.com/world/06oct2006/fbi.html.
- Президент Боливии призвал решать вопрос о базах США в Колумбии всей Южной Америкой [Електронний ресурс] // NEWSru.com. ‒ 2009. ‒ Режим доступу до ресурсу: https://www.newsru.com/world/27aug2009/referendcolumb.html.
- Инцидент с самолетом президента Боливии, на котором искали Сноудена, грозит поссорить Латинскую Америку с Европой [Електронний ресурс] // NEWSru.com. ‒ 2013. ‒ Режим доступу до ресурсу: https://www.newsru.com/world/04jul2013/bolivsnow.html.
- Bolivia – ¿La izquierda engendró a sus propios sepultureros? Méritos y límites de una “revolución” pragmática [Електронний ресурс] // Correspondencia de Prensa. ‒ 2019. ‒ Режим доступу до ресурсу: https://correspondenciadeprensa.com/?p=8697.
- Президент Боливии решил национализировать швейцарскую металлургическую компанию «Гленкор» [Електронний ресурс] // NEWSru.com. ‒ 2007. ‒ Режим доступу до ресурсу: https://www.newsru.com/finance/09feb2007/nacionalizacia.html.
- "Газпром" и французская Total вложились в боливийское месторождение [Електронний ресурс] // NEWSru.com. ‒ 2013. ‒ Режим доступу до ресурсу: https://www.newsru.com/finance/02aug2013/gzprmbolivia.html.
- Правовая система Боливии [Електронний ресурс] // Юрист. ‒ 2009. ‒ Режим доступу до ресурсу: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30430269&pos=6;-108#pos=6;-108.
- В Боливии шахтеры протестуют против увольнения, угрожая захватить несколько рудников. [Електронний ресурс] // РБК-Україна. ‒ 2008.
- В Боливии бастующие шахтеры до смерти забили замминистра [Електронний ресурс] // NEWSru.com. ‒ 2016. ‒ Режим доступу до ресурсу: https://www.newsru.com/world/26aug2016/bolivia.html.
- В Боливии увеличилось количество погибших шахтеров, протестующих против закона о кооперативах [Електронний ресурс] // NEWSru.com. ‒ 2016. ‒ Режим доступу до ресурсу: https://www.newsru.com/world/29aug2016/bolivia.html.
- В Боливии легализован труд с 10-летнего возраста [Електронний ресурс] // DW. ‒ 2014.
- Бастующие в Боливии полицейские с женами устроили погром возле дворца президента [Електронний ресурс] // NEWSru.com. ‒ 2012. ‒ Режим доступу до ресурсу: https://www.newsru.com/world/22jun2012/bolivia_police.html.
- Власти Боливии уволили более 700 военнослужащих за участие в акции протеста [Електронний ресурс] // NEWSru.com. ‒ 2014. ‒ Режим доступу до ресурсу: https://www.newsru.com/world/25apr2014/bolivia.html.
- Fernando Leanes: Bolivia, con 173% en inversión per cápita en salud [Електронний ресурс] // LA RAZÓN. ‒ 2015. ‒ Режим доступу до ресурсу: https://web.archive.org/web/20190529032944/http:/www.la-razon.com/sociedad/Entrevista-Fernando_Leanes-Bolivia-inversion-per_capita-salud_0_2366163386.html.
- WHO Lauds Bolivia's Efforts in Health Sector, Says It's 'Setting an Example' [Електронний ресурс] // teleSUR. ‒ 2017. ‒ Режим доступу до ресурсу: https://www.telesurenglish.net/news/WHO-Lauds-Bolivias-Efforts-in-Health-Sector-Says-Its-Setting-an-Example--20170807-0027.html.
- Боливия и Куба подписали соглашение о сотрудничестве [Електронний ресурс] // DW. ‒ 2005.
- Кубинские врачи бесплатно вернули зрение убийце Че Гевары [Електронний ресурс] // Gazeta.ua. ‒ 2007. ‒ Режим доступу до ресурсу: https://gazeta.ua/ru/articles/life/_kubinskie-vrachi-besplatno-vernuli-zrenie-ubijce-ce-gevary/184703.
- Боливия, свободная от неграмотности [Електронний ресурс] // BBC Mundo. ‒ 2009. ‒ Режим доступу до ресурсу: http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/business/newsid_7793000/7793177.stm.
- Protestas en Bolivia de 2019 [Електронний ресурс] // Wikipedia. ‒ 2023. ‒ Режим доступу до ресурсу: https://es.wikipedia.org/wiki/Protestas_en_Bolivia_de_2019.
- Encuentran papeletas marcadas a favor del MAS en La Paz [Електронний ресурс] // Los Tiempos. ‒ 2019. ‒ Режим доступу до ресурсу: https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191021/encuentran-papeletas-marcadas-favor-del-mas-paz.
- ECochabamba radicaliza el paro indefinido y cabildo ratifica sus medidas [Електронний ресурс] // Los Tiempos. ‒ 2019. ‒ Режим доступу до ресурсу: https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191026/cochabamba-radicaliza-paro-indefinido-cabildo-ratifica-sus-medidas.
- Exdirigentes de la COB convocan al desacato sindical contra la actual cabeza del ente matriz [Електронний ресурс] // Página Siete. ‒ 2019. ‒ Режим доступу до ресурсу: https://web.archive.org/web/20191031044733/https:/www.paginasiete.bo/nacional/2019/10/30/exdirigentes-de-la-cob-convocan-al-desacato-sindical-contra-la-actual-cabeza-del-ente-matriz-235940.html.
- Mineros de San Cristóbal piden anular elecciones [Електронний ресурс] // Página Siete. ‒ 2019. ‒ Режим доступу до ресурсу: https://web.archive.org/web/20191031144744/https:/www.paginasiete.bo/nacional/2019/10/30/mineros-de-san-cristobal-piden-anular-elecciones-235891.html.
- Cocaleros bloquean carretera Cochabamba - Santa Cruz para respaldar a Evo [Електронний ресурс] // Los Tiempos. ‒ 2019. ‒ Режим доступу до ресурсу: https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191027/cocaleros-bloquean-carretera-cochabamba-santa-cruz-respaldar-evo.
- Heridas de la emboscada en Playa Verde dejan a mineros sin trabajo ni esperanza [Електронний ресурс] // Página Siete. ‒ 2021. ‒ Режим доступу до ресурсу: https://www.paginasiete.bo/nacional/heridas-de-la-emboscada-en-playa-verde-dejan-a-mineros-sin-trabajo-ni-esperanza-BAPS307143.
- Duros enfrentamientos en Quillacollo dejan decenas de heridos [Електронний ресурс] // Los Tiempos. ‒ 2019. ‒ Режим доступу до ресурсу: https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191106/duros-enfrentamientos-quillacollo-dejan-decenas-heridos.
- Análisis de Integridad Electoral. Elecciones Generales en el Estado Plurinacional de Bolivia. 20 de octubre de 2019 ‒ https://www.oas.org/es/sap/deco/Informe-Bolivia-2019/0.1%20Informe%20Final%20-%20Analisis%20de%20Integridad%20Electoral%20Bolivia%202019%20(OSG).pdf.
- Был ли переворот? Как Боливия осталась без Эво Моралеса [Електронний ресурс] // BBC News Русская служба. ‒ 2019. ‒ Режим доступу до ресурсу: https://www.bbc.com/russian/news-50372118.
- “Ahora sí, guerra civil”: una multitud enfurecida de milicianos y simpatizantes de Evo Morales llegó a La Paz y la policía se declaró “rebasada” [Електронний ресурс] // infobae. ‒ 2019. ‒ Режим доступу до ресурсу: https://www.infobae.com/america/america-latina/2019/11/11/ahora-si-guerra-civil-una-multitud-enfurecida-de-milicianos-y-simpatizantes-de-evo-morales-llega-a-la-paz/.
- Bolivia: el decreto de Jeanine Áñez para quitarle la "responsabilidad penal" a las Fuerzas Armadas ante las protestas [Електронний ресурс] // Clarín. ‒ 2019. ‒ Режим доступу до ресурсу: https://www.clarin.com/mundo/bolivia-decreto-jeanine-anez-quitarle-responsabilidad-penal-fuerzas-armadas-protestas_0_AwNOgZKd.html.
- Cocaleros marchan e intentan nuevamente ingresar a la ciudad [Електронний ресурс] // Opinión Bolivia . ‒ 2019. ‒ Режим доступу до ресурсу: https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/cocaleros-marchan-intentan-nuevamente-ingresar-ciudad/20191116130924737164.html.
- Opositores cortan el pelo y hacen caminar descalza a alcaldesa en Bolivia [Електронний ресурс] // teleSUR. ‒ 2019. ‒ Режим доступу до ресурсу: https://www.telesurtv.net/news/secuestran-y-agreden-alcaldesa-cochabamba-bolivia-20191106-0033.html.
- Новый президент воплотила свою мечту: в Боливии нет места "сатанинским ритуалам с Пачамамой" [Електронний ресурс] // Gloria.tv. ‒ 2019. ‒ Режим доступу до ресурсу: https://www.gloria.tv/post/HTCcJGSGCxjs4MS9JxzuqpWpi.
- Я устала сжимать другие миры в моем кулаке: седьмое письмо (2020). [Електронний ресурс] // Tricontinental. ‒ 2020. ‒ Режим доступу до ресурсу: https://thetricontinental.org/ru/newsletterissue/pysmo-7-2020-boliviya/.
- Всеобщие выборы в Боливии (2020) [Електронний ресурс] // Википедия. ‒ 2023.
18 октября 2025
Автор: Редакция РФУ