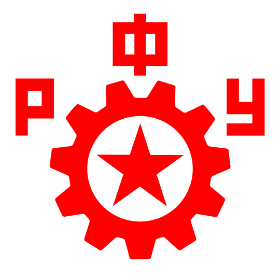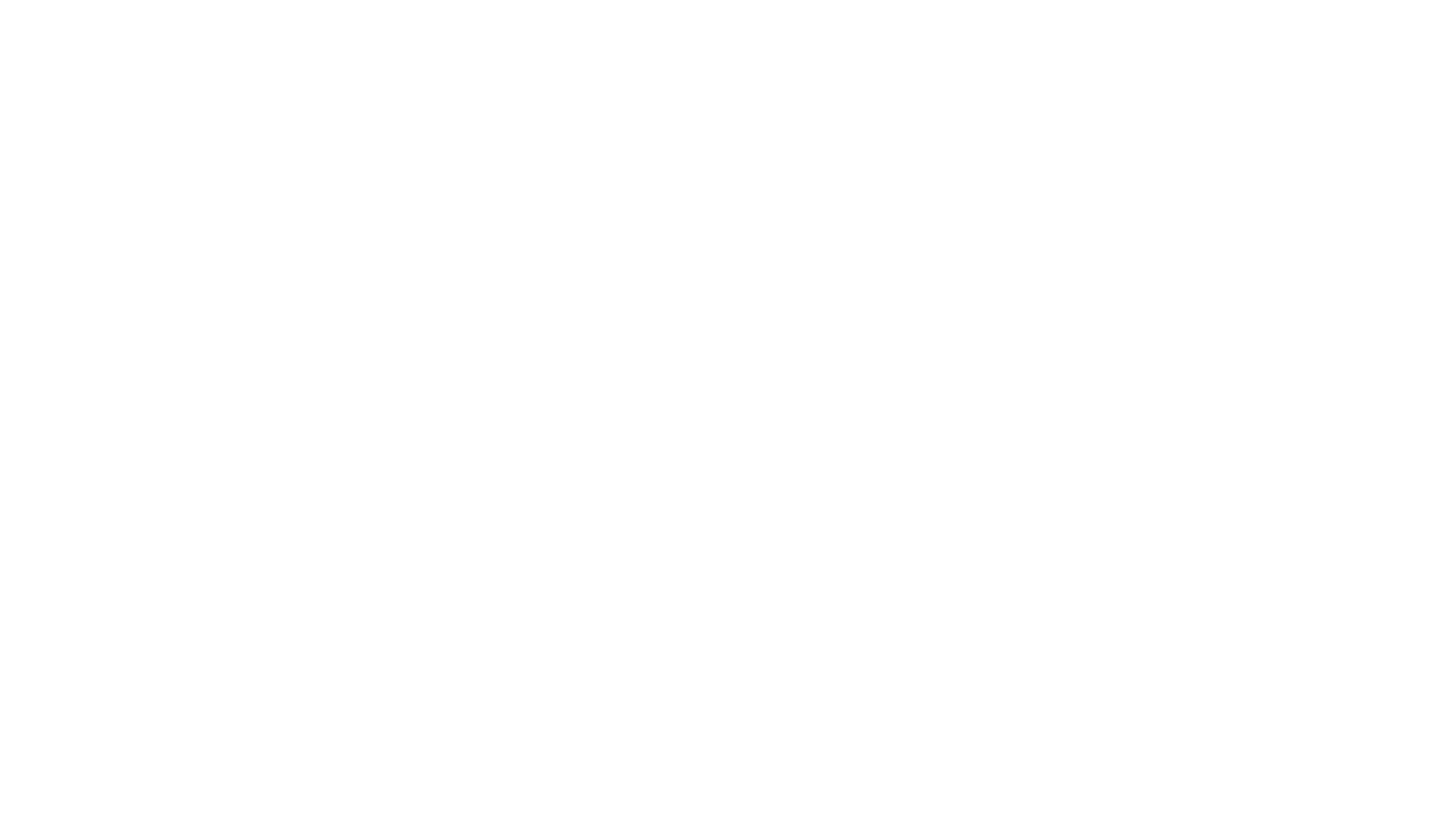
День в клетке
Время чтения ~ 10 минут
Основано на реальных событиях и прямых свидетельствах
Иван Денисович проснулся в холодном бараке военной части, где ветер гулял по щелям.
Областной центр, серый и угрюмый в этот пасмурный день, тонул в утреннем тумане, а койки в бараке скрипели, как переломанные кости.
Иван, бывший мастер прокатного цеха металлургического комбината, привык к жару раскаленного металла, к ритмичному гулу машин, к запаху окалины и масла. Но в первый день войны заводские автобусы подогнали к проходной, и его, как и десятки его коллег, погрузили в машины и повезли в ТЦК.
Он служил в советской армии в молодости и знал, что долг — защищать Родину. Пусть теперь это Украина, но иного он не знал, так его учили: долг выше жизни отдельного человека. Он обязан его выполнить, иначе кто он, не мужик, что ли?
Теперь, хромая от ранения под Бахмутом, он снова, по словам командиров, выполнял долг: стал ловцом людей в ТЦК, зубом шестеренки военной машины, что жует всех без разбора.
К пяти утра он вместе с другими такими же трясся в старом автобусе по дороге в райцентр, к трехэтажному зданию бывшего военкомата. ТЦК — серое здание с решетками на окнах первого этажа, где советские звезды разогнули молотками, чтобы вытравить прошлое. У входа — рамка металлоискателя, вооруженная охрана. Молодые парни с автоматами и контуженными глазами, кто-то на костылях, без ног. Он принял у них смену.
Треть сотрудников такие же, как он: ходячие, но тронутые войной, с дрожащими руками и пустым взглядом. Тех, кто на костылях, в рейды не брали, так как надо бегать, ловить сопротивляющихся. Предпенсионеры глотали таблетки, чтобы не свалиться, пенсионеры шаркали с картотечными папками в руках, а женщины в гражданском у окошек конторских стоек вели учет. Их голоса резали тишину. Все пытались говорить по–украински, но русский, родной язык почти для каждого здесь, то и дело вырывался то у одного, то у другого.
Майор, начальник ТЦК — контуженный зверь в пиксельном камуфляже с нашивкой черепа в синем берете на плече, метался по этажам, сжимая штатный ПМ. Если что-то шло не так, орал, стуча пистолетом по столу: «Вы что, забыли фронт? Ловите их, или назад отправлю!» Контузия превратила его в машину ярости, и Иван Денисович, кивая, думал: «Мы все контужены, майор, ты — взрывом, я — совестью».
Утро начиналось с планерки в бывшей аудитории для призывников. Теперь часть помещения занимали койки с грязными матрасами для тех, кто ожидал отправки или «мариновался», потому что не сотрудничал или просто ждал своей очереди: наркоманы, алкоголики, хулиганы, нарушители комендантского часа, работяги, такие же, как и он сам, схваченные по дороге на работу, — всех сюда круглосуточно свозила полиция.
Ловили у мусорных баков, на улицах и у проходной мужчин 25–50 лет, похожих на более или менее пригодное «пушечное мясо» для фронта. Сопротивляющихся волокли в машину, а затем в подвал ТЦК, где из бывшей оружейной кладовки с решеткой была оборудована клетка. Там они стонали в темноте. Иван смотрел на них и вспоминал завод: там металл гнули в валках, а здесь — людей в клетках.
Рейды начинались рано. Иван Денисович ехал в «бусике» с тремя мужиками в военной форме, с пустыми глазами и пистолетами на поясах. Они рыскали по рынкам, дворам, ловя тех, кто не успел спрятаться. Первый на сегодня — парень лет тридцати с сумкой продуктов. «Докумэнты!» — рявкнул Иван, стараясь говорить по–украински. Парень побледнел: «Я отец-одиночка, не трогайте...». Они быстро его скрутили, заставили назвать имя, пробили по базе: неявка по повестке, розыск. Продукты посыпались на землю. Но одному не справиться с четырьмя, пускай и побитыми войной, ветеранами. Они скрутили его, запихнули в машину, хватая за руки и за ноги. Скоро их подопечный уже сидел в «бусе», окруженный со всех сторон бойцами их «летучего отряда». «Не сопротивляйся, — прошептал Иван по–русски, — хуже будет».
В ТЦК — медкомиссия. Врачи, уставшие и нервные от непрерывного потока «добровольцев», искали болячки, сверяясь с единой медицинской базой и проверяя документы у тех, у кого они имелись. Старались подыграть пойманным на улице, но коли здоров — ничего не попишешь: в учебку! Иван рассылал результаты через WhatsApp в части тамошним кадровикам, где те разбирали вновь отловленных «добровольцев», как товар на торгах. Иван шептал: «Прости, брат», но система, как Молох, требовала все новых и новых человеческих жертв, чтобы «трыматы фронт», как им говорили.
День тянулся, как отвал доменного шлака, серый и смердящий немытыми телами и куревом.
У здания ТЦК собиралась толпа. Многие сами приходили по повесткам, для учета: выезд, переезд, студенты, формальности для поступающих или выезжающих военных и врачей. Волокита тянулась днями и неделями: очереди, штампы и унижение. «Добровольцы» проскакивали в десятки раз быстрее, без очереди, словно туши на конвейере скотобойни.
Новым его заданием было охранять медкомиссию, следить, чтобы обследуемые ненароком не сбежали через окно или еще чего похуже… Бывали случаи, когда даже на этом этапе люди кончали с собой. Один, с запахом перегара, умолял: «Я болен, отпустите! У меня гепатит». Иван отвернулся: «Не я решаю». Но внутри горело: «Мы все больны — войной, долгом. Я сторожу тебя, а кто-то сторожит меня».
К обеду майор снова орал и стучал пистолетом по столу: «План провален, ТЦК — мишень для ракет и дронов! Ударят — сгорим тут все!». Иван думал о бомбежках: здание дрожит, как заводская печь перед взрывом, а они прячутся в подвале с «крысами», которых сами туда упекли.
Больше трех дней держать нельзя — закон, но чтобы выполнить формальности людей возили из одного отделения в другое. Сопротивляющихся били и запугивали: «Подпишешь контракт — или в клетку!». Один, с татуировками, дрался; его крепко приложили и заперли в подвале, где он сначала кричал, а теперь просто подвывает, как загнанный волк.
Вечером Иван хромал по коридорам мимо коек, где стонали прикованные наручниками «добровольцы».
Его контуженные коллеги курили перед главным входом в здание, женщины–клерки подсчитывали бумаги вновь обработанных за сегодня призывников. «Это не жизнь, — думал он, — это дно. Мы, босяки, ловим других босяков, чтобы не оказаться снова в окопе». Вспоминал завод, гул прокатного стана, мир: «И это наш долг? Война? Мясорубка? Ради чего это все?». Майор пробежал мимо, бормоча: «План, план...».
Иван закурил у окна с разогнутыми звездами на решетках. Туман рассеялся, на город опускалась тьма. Завтра к пяти — автобус, рейды, клетка. Может, ракета оборвет все? Или он сломается? Или снова окажется в окопе?
Их машина по переработке живого мяса гудела, как прокатная клеть, и Иван Денисович был лишь колесиком в ее зубчатом нутре — ржавым, но все еще крутящимся.
В этот вечер что-то треснуло в душе Ивана Денисовича. Он вспомнил парня с сумкой хлеба и глазами, как у его сына, которого он не видел с начала войны. Тот тоже был в армии. Жив ли он? «Долг, — шепнул он, — но кому? Системе, что жрет нас? Или людям, которых я ломаю?»
Он сжал окурок, бросил его в темноту. Завтра он опять придет в ТЦК, наденет бодикамеру, сядет в «бусик». В груди его зародился слабый, почти мертвый огонек — бунт. Может, он кого-нибудь отпустит. Может, откажется бить. А может, система раздавит его, как металл в прокатном стане. Но пока он дышал, он знал: этот огонек — последнее, что делает его человеком.
Областной центр, серый и угрюмый в этот пасмурный день, тонул в утреннем тумане, а койки в бараке скрипели, как переломанные кости.
Иван, бывший мастер прокатного цеха металлургического комбината, привык к жару раскаленного металла, к ритмичному гулу машин, к запаху окалины и масла. Но в первый день войны заводские автобусы подогнали к проходной, и его, как и десятки его коллег, погрузили в машины и повезли в ТЦК.
Он служил в советской армии в молодости и знал, что долг — защищать Родину. Пусть теперь это Украина, но иного он не знал, так его учили: долг выше жизни отдельного человека. Он обязан его выполнить, иначе кто он, не мужик, что ли?
Теперь, хромая от ранения под Бахмутом, он снова, по словам командиров, выполнял долг: стал ловцом людей в ТЦК, зубом шестеренки военной машины, что жует всех без разбора.
К пяти утра он вместе с другими такими же трясся в старом автобусе по дороге в райцентр, к трехэтажному зданию бывшего военкомата. ТЦК — серое здание с решетками на окнах первого этажа, где советские звезды разогнули молотками, чтобы вытравить прошлое. У входа — рамка металлоискателя, вооруженная охрана. Молодые парни с автоматами и контуженными глазами, кто-то на костылях, без ног. Он принял у них смену.
Треть сотрудников такие же, как он: ходячие, но тронутые войной, с дрожащими руками и пустым взглядом. Тех, кто на костылях, в рейды не брали, так как надо бегать, ловить сопротивляющихся. Предпенсионеры глотали таблетки, чтобы не свалиться, пенсионеры шаркали с картотечными папками в руках, а женщины в гражданском у окошек конторских стоек вели учет. Их голоса резали тишину. Все пытались говорить по–украински, но русский, родной язык почти для каждого здесь, то и дело вырывался то у одного, то у другого.
Майор, начальник ТЦК — контуженный зверь в пиксельном камуфляже с нашивкой черепа в синем берете на плече, метался по этажам, сжимая штатный ПМ. Если что-то шло не так, орал, стуча пистолетом по столу: «Вы что, забыли фронт? Ловите их, или назад отправлю!» Контузия превратила его в машину ярости, и Иван Денисович, кивая, думал: «Мы все контужены, майор, ты — взрывом, я — совестью».
Утро начиналось с планерки в бывшей аудитории для призывников. Теперь часть помещения занимали койки с грязными матрасами для тех, кто ожидал отправки или «мариновался», потому что не сотрудничал или просто ждал своей очереди: наркоманы, алкоголики, хулиганы, нарушители комендантского часа, работяги, такие же, как и он сам, схваченные по дороге на работу, — всех сюда круглосуточно свозила полиция.
Ловили у мусорных баков, на улицах и у проходной мужчин 25–50 лет, похожих на более или менее пригодное «пушечное мясо» для фронта. Сопротивляющихся волокли в машину, а затем в подвал ТЦК, где из бывшей оружейной кладовки с решеткой была оборудована клетка. Там они стонали в темноте. Иван смотрел на них и вспоминал завод: там металл гнули в валках, а здесь — людей в клетках.
Рейды начинались рано. Иван Денисович ехал в «бусике» с тремя мужиками в военной форме, с пустыми глазами и пистолетами на поясах. Они рыскали по рынкам, дворам, ловя тех, кто не успел спрятаться. Первый на сегодня — парень лет тридцати с сумкой продуктов. «Докумэнты!» — рявкнул Иван, стараясь говорить по–украински. Парень побледнел: «Я отец-одиночка, не трогайте...». Они быстро его скрутили, заставили назвать имя, пробили по базе: неявка по повестке, розыск. Продукты посыпались на землю. Но одному не справиться с четырьмя, пускай и побитыми войной, ветеранами. Они скрутили его, запихнули в машину, хватая за руки и за ноги. Скоро их подопечный уже сидел в «бусе», окруженный со всех сторон бойцами их «летучего отряда». «Не сопротивляйся, — прошептал Иван по–русски, — хуже будет».
В ТЦК — медкомиссия. Врачи, уставшие и нервные от непрерывного потока «добровольцев», искали болячки, сверяясь с единой медицинской базой и проверяя документы у тех, у кого они имелись. Старались подыграть пойманным на улице, но коли здоров — ничего не попишешь: в учебку! Иван рассылал результаты через WhatsApp в части тамошним кадровикам, где те разбирали вновь отловленных «добровольцев», как товар на торгах. Иван шептал: «Прости, брат», но система, как Молох, требовала все новых и новых человеческих жертв, чтобы «трыматы фронт», как им говорили.
День тянулся, как отвал доменного шлака, серый и смердящий немытыми телами и куревом.
У здания ТЦК собиралась толпа. Многие сами приходили по повесткам, для учета: выезд, переезд, студенты, формальности для поступающих или выезжающих военных и врачей. Волокита тянулась днями и неделями: очереди, штампы и унижение. «Добровольцы» проскакивали в десятки раз быстрее, без очереди, словно туши на конвейере скотобойни.
Новым его заданием было охранять медкомиссию, следить, чтобы обследуемые ненароком не сбежали через окно или еще чего похуже… Бывали случаи, когда даже на этом этапе люди кончали с собой. Один, с запахом перегара, умолял: «Я болен, отпустите! У меня гепатит». Иван отвернулся: «Не я решаю». Но внутри горело: «Мы все больны — войной, долгом. Я сторожу тебя, а кто-то сторожит меня».
К обеду майор снова орал и стучал пистолетом по столу: «План провален, ТЦК — мишень для ракет и дронов! Ударят — сгорим тут все!». Иван думал о бомбежках: здание дрожит, как заводская печь перед взрывом, а они прячутся в подвале с «крысами», которых сами туда упекли.
Больше трех дней держать нельзя — закон, но чтобы выполнить формальности людей возили из одного отделения в другое. Сопротивляющихся били и запугивали: «Подпишешь контракт — или в клетку!». Один, с татуировками, дрался; его крепко приложили и заперли в подвале, где он сначала кричал, а теперь просто подвывает, как загнанный волк.
Вечером Иван хромал по коридорам мимо коек, где стонали прикованные наручниками «добровольцы».
Его контуженные коллеги курили перед главным входом в здание, женщины–клерки подсчитывали бумаги вновь обработанных за сегодня призывников. «Это не жизнь, — думал он, — это дно. Мы, босяки, ловим других босяков, чтобы не оказаться снова в окопе». Вспоминал завод, гул прокатного стана, мир: «И это наш долг? Война? Мясорубка? Ради чего это все?». Майор пробежал мимо, бормоча: «План, план...».
Иван закурил у окна с разогнутыми звездами на решетках. Туман рассеялся, на город опускалась тьма. Завтра к пяти — автобус, рейды, клетка. Может, ракета оборвет все? Или он сломается? Или снова окажется в окопе?
Их машина по переработке живого мяса гудела, как прокатная клеть, и Иван Денисович был лишь колесиком в ее зубчатом нутре — ржавым, но все еще крутящимся.
В этот вечер что-то треснуло в душе Ивана Денисовича. Он вспомнил парня с сумкой хлеба и глазами, как у его сына, которого он не видел с начала войны. Тот тоже был в армии. Жив ли он? «Долг, — шепнул он, — но кому? Системе, что жрет нас? Или людям, которых я ломаю?»
Он сжал окурок, бросил его в темноту. Завтра он опять придет в ТЦК, наденет бодикамеру, сядет в «бусик». В груди его зародился слабый, почти мертвый огонек — бунт. Может, он кого-нибудь отпустит. Может, откажется бить. А может, система раздавит его, как металл в прокатном стане. Но пока он дышал, он знал: этот огонек — последнее, что делает его человеком.
Комментарий редакции
Спасибо товарищу за такую интересную историю. Рассказ получился тяжелым, но он хорошо показывает правду о том, как капитализм дробит человеческие души.
Перед нами настоящий завод по перековке людей. Бывшие сталепрокатчики, заводчане, предпенсионеры и пенсионеры, очевидно также с опытом на «обычных» гражданских должностях, профессиональные медики и профессиональные военные. Они выступают такими же бедолагами, как и их жертвы: работяги, студенты, «хулиганы», отцы-одиночки. Только одних жизнь швырнула в подвал, а других поставила этот подвал стеречь. Раньше «металл гнули в валках, а здесь — людей в клетках». Ситуация показана как новая форма цехового гула.
Рассказ тяжелый. Как рентген, он показывает суть событий, но не подает ее через призму соцреализма. Нет бодрых ударников, борцов с системой, одерживающих победу. Есть разогнутые советские звезды на окнах и сомнения главного героя. Остается только догадываться, как он закончит.
Но, товарищи, дух реализма вовсе не значит, что соцреализм невозможен. Его нет в тексте, и это потому, что рассказ показывает мир таким, как он есть, без учета исключений. А соцреализм не может родиться везде и сразу — он должен пробиваться из самой жизни. И со временем огонек протеста в душе Ивана Денисовича найдет ответ в коллективном действии.
Не будем пенять автору за отсутствие «правильного» финала. Его задача — описать ситуацию, наша — превратить огонек в действие.
До тех пор, пока мы остаемся сторонними зрителями, система будет и дальше требовать жертв, «как Молох». Система сильна лишь нашей разобщенностью и нерешительностью, недостаточной организованностью сопротивления ей. Стоит всем угнетенным ею начать совместные действия — и никакая клетка их не удержит.
Перед нами настоящий завод по перековке людей. Бывшие сталепрокатчики, заводчане, предпенсионеры и пенсионеры, очевидно также с опытом на «обычных» гражданских должностях, профессиональные медики и профессиональные военные. Они выступают такими же бедолагами, как и их жертвы: работяги, студенты, «хулиганы», отцы-одиночки. Только одних жизнь швырнула в подвал, а других поставила этот подвал стеречь. Раньше «металл гнули в валках, а здесь — людей в клетках». Ситуация показана как новая форма цехового гула.
Рассказ тяжелый. Как рентген, он показывает суть событий, но не подает ее через призму соцреализма. Нет бодрых ударников, борцов с системой, одерживающих победу. Есть разогнутые советские звезды на окнах и сомнения главного героя. Остается только догадываться, как он закончит.
Но, товарищи, дух реализма вовсе не значит, что соцреализм невозможен. Его нет в тексте, и это потому, что рассказ показывает мир таким, как он есть, без учета исключений. А соцреализм не может родиться везде и сразу — он должен пробиваться из самой жизни. И со временем огонек протеста в душе Ивана Денисовича найдет ответ в коллективном действии.
Не будем пенять автору за отсутствие «правильного» финала. Его задача — описать ситуацию, наша — превратить огонек в действие.
До тех пор, пока мы остаемся сторонними зрителями, система будет и дальше требовать жертв, «как Молох». Система сильна лишь нашей разобщенностью и нерешительностью, недостаточной организованностью сопротивления ей. Стоит всем угнетенным ею начать совместные действия — и никакая клетка их не удержит.
Поэтому записывайтесь на кружки, или становитесь рабкорами, помогайте друг другу, участвуйте в профсоюзной борьбе. Только так и только сообща мы превратим слабый огонек протеста в полыхающий костер.
13 сентября 2025
Автор: П., Редакция РФУ